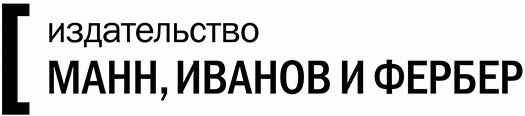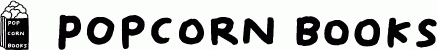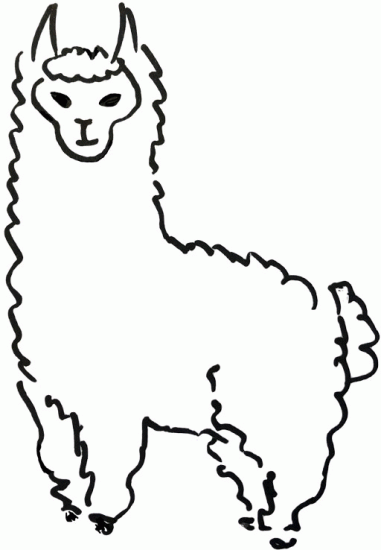Клиенттің Mr. Justyn Pagac PhD пікірлері
| Беттер: 1 2 | Көрсетілген 1-40 барлығы 42 |

«Красное и Черное» (Le Rouge et le Noir) французского писателя Мари-Анри Бейля (куда более известного под своим литературным псевдонимом «Стендаль») - это, пожалуй, ключевой образчик-предшественник «психологического реализма» - направления, которое ко второй половине XIX века стало преобладающим в европейской литературе сменив собой эпоху романтизма. К 40-м годам XX века под влиянием тогдашних реалий, литературного наследия таких авторов как Достоевский, Эдгар По и тот же Стендаль, американского «крутого детектива» из палпа 30-х и его главных апостолов в лице Чандлера, Хэммета и Кейна, а также совершенно новой эстетики вобравшей в себя черные фетровые шляпы, кроваво-красную губную помаду, дымящиеся сигареты, дождливые улицы больших городов, порочность человеческих душ и ощущения опасности, обреченности и одиночества - психологический реализм реинкарнирует в «черное кино», тот самый «фильм-нуар», а в дальнейшем и в нуар-прозу. И, вне всяких сомнений, «Красное и Черное», как и, во многом, наследующее ему «Преступление и Наказание», это прото-нуар 19 века. Как ни крути, но «Красное и Черное» - это типичная для нуара история взлёта и падения амбициозного человека, который готов пойти на всё ради реализации своих планов (из наиболее ярких примеров та же «Аллея Кошмаров» Уильяма Грешема или фильм «Из прошлого» с легендарным Робертом Митчемом в главной роли). Но в реалиях Франции «после Наполеона» и с упором на чувственное безрассудство главных героев. История простого паренька из семьи бедного плотника, который мечтает «выбиться в люди», но по пути теряет всё больше человечности и шагает по головам других, а в конце жестоко за это расплачивается, сегодня навряд ли бы стала чем-то инновационным в литературе, но это сегодня. А в 1830-х годах книга вызвала просто бурю и заложила основы под целые жанры и субжанры. Проза Стендаля тягучая и детальная, герои раскрыты таким образом, что сам читатель решает, положительный ли тот или иной персонаж, или отрицательный. Никакой морально-этической оценки героям на страницах книги не выносится. Вы сами её вынесите. Если захотите. Зато даны предельно-подробные психологические портреты представителей самых разных слоев французского общества того времени.
Автор интересно смешивает самые различные темы в своем произведении: политику и религию, верность и прелюбодеяние, богатство и бедность, любовь и ненависть. Лично для меня «Красное и Черное» всегда было в первую очередь о всепоглощающих амбициях, необдуманных поступках, ошибках молодости и губительных проявлениях честолюбия. О недостижимости той «мечты», что и не должна бы становиться мечтой. О кризисе личности, когда человек теряет себя настолько, что уже не знает какой он настоящий. О любви, которая могла бы спасти, но была отвергнута в силу гордыни и полного непонимания тех чувств, что кипят в тебе. Тебе выпало красное, но ты сам упорно продолжал ставить на черное… И самое главное, темы тут затронутые по-прежнему актуальны и для нашей эпохи, ибо сколько бы столетий не прошло, но человеческую природу и страсти, что её обуревают, ничто не изменит. Наверное, это и делает «классику» классикой. Она вне времени. Относительно самого издания - всё просто прекрасно. «Комильфо» держит марку на самом высоком уровне. Отличное визуальное оформление, белоснежная и плотная бумага, пропечатанный текст на каждой из 600 с гаком страниц. Такую книгу элементарно приятно держать в руках, даже не зная о её содержимом, а уж если знаешь… уууу 😅
Автор интересно смешивает самые различные темы в своем произведении: политику и религию, верность и прелюбодеяние, богатство и бедность, любовь и ненависть. Лично для меня «Красное и Черное» всегда было в первую очередь о всепоглощающих амбициях, необдуманных поступках, ошибках молодости и губительных проявлениях честолюбия. О недостижимости той «мечты», что и не должна бы становиться мечтой. О кризисе личности, когда человек теряет себя настолько, что уже не знает какой он настоящий. О любви, которая могла бы спасти, но была отвергнута в силу гордыни и полного непонимания тех чувств, что кипят в тебе. Тебе выпало красное, но ты сам упорно продолжал ставить на черное… И самое главное, темы тут затронутые по-прежнему актуальны и для нашей эпохи, ибо сколько бы столетий не прошло, но человеческую природу и страсти, что её обуревают, ничто не изменит. Наверное, это и делает «классику» классикой. Она вне времени. Относительно самого издания - всё просто прекрасно. «Комильфо» держит марку на самом высоком уровне. Отличное визуальное оформление, белоснежная и плотная бумага, пропечатанный текст на каждой из 600 с гаком страниц. Такую книгу элементарно приятно держать в руках, даже не зная о её содержимом, а уж если знаешь… уууу 😅
Думаю, что многих оттолкнет от книги главный герой. По-началу он кажется слишком одномерным и через чур заносчивым, а образ его мышление вызовет непонимание. Его неоднозначность и трагизм борьбы с самим собой проявляются постепенно, даже медленно, и не все дойдут до этого момента начав чтение книги. Плюс, очень много описаний политических реалий Франции пост-наполеоновской эпохи. Людям далёким от социально-политического контекста книги это может показаться излишним и порядком затянутым. Но это всё с точки зрения субъективизма. Если смотреть объективно, то «Красное и Черное» прекрасный пример психологического реализма с глубокой проработкой характеров героев, их чувств и мотивации. Недостатков и минусов тут практически нет, ну, разве что, иногда слишком неспешный слог автора. Однозначная классика в отличном новом оформлении.
Опубликованный в 1830 году роман «Красное и Черное» берет за основу газетную статью, которую Стендаль прочитал в гренобльской газете. И уже с первых дней публикации роман неоднократно запрещали, обличали и многое другое (Оскар Уайльд со своим «Портретом Дориана Грея» понимающе кивает). Роман задел многих, и особенно людей обличенных властью. Оно и понятно. Стендаль нарисовал крайне неприятную картину высшего общества Франции 20-30-х гг. XIX века. Масла в огонь подливало и само название стендалевского романа, которое вызвало множество споров и недоумений — оно было глубоко новаторским. Во втором и третьем десятилетиях XIX века представители романтизма вводят в моду необычные и загадочные названия, однако, в отличие от стендалевского, они всегда объяснялись текстом, где в том или ином виде предлагалась их разгадка. В названии же стендалевского произведения содержится загадка без какой-либо разгадки. Просто «Красное и Черное». И всё тут. Впоследствии было выдвинуто немало гипотез, почему автор выбрал для романа такое название, но однозначного мнения на этот счёт в литературоведении не сформировалось и по сей день. Красное - чёрное можно трактовать и как символ двух карьер Сореля - военной и духовной, и как игру в рулетку, где красное - выигрыш, а чёрное - проигрыш. Игра постоянно присутствует в поведении ГГ, ибо ему почти всегда приходится надевать маску — лицемерить, играть роль, нередко на грани жизни и смерти. Да и вообще следует сказать, что тема игры, человеческих масок и вторых личностей станет постоянной в творчестве Стендаля именно после этого произведения. Также оппозиция «красное - черное» символизирует то внутреннее противоречие, которое переживает герой, а также его конфликт с миром. Если красный цвет — это, при определенном трактовании, радость, победа, красота, то чёрный цвет - это всегда и однозначно скорбь, одиночество, несчастье и смерть. Читатель волен выбирать сам, что ему ближе или прийти к своим собственным выводам. Стендаль загадал загадку, но такую, где любой ответ может быть верным или неверным в равной степени (в этот раз обойдусь без аналогий с двумя сторонами одной монеты, нувыпонели). А что же у нас там с самой историей? О, с историей полный порядок, поверьте мне. Восемнадцатилетний Жюльен Сорель - главный герой романа. Он хочет быть епископом, но жаждет только одного - привилегий, связанных с этой должностью. Сам он в Бога не верит. Жюльен беден и не имеет знатного происхождения, он - обыкновенный деревенский парень, и дорога на вершину пищевой цепочки для него закрыта (на первый взгляд…), однако он имеет целый ряд других козырей у себя в рукаве: острый ум, рассудительность, самодостаточность, высокая адаптивность к сложившимся обстоятельствам, немалый талант к тактическому и стратегическому мышлению (правда, в дальнейшем ситуативность и порывистость берут над ним верх, и Жюльен больше не способен просчитать «игру» даже на один ход вперёд), честолюбие, амбициозность (к сожалению, порой излишняя и подогреваемая его ненасытной гордыней), при этом он остаётся чувственным, эмоциональным, крайне обидчивым и многого непонимающим чисто в силу своего возраста. Он - Человек Идеи. Идейность его натуры может даже вызвать некое уважение, ибо Жюльен не просто словами, но и своими действиями показывает сколь многим он готов пожертвовать ради Идеи (только вот эта «идея» - пустышка. Фантазия, несбыточная мечта парня, который, несмотря на все свои незаурядные таланты, так и не научился отличать зерна от плевел, плохое от хорошего, красное от черного). Это во многом роднит его с Родионом Раскольниковым (не секрет, что Федор Михайлович поглядывал на «Красное и Черное» при написании своего бессмертного произведения). Но на этом их «родство душ» не заканчивается. Жюльен Сорель ярый поклонник Наполеона, он мечтает повторить его судьбу. Постоянно сравнивает свою личность с личностью Бонапарта. В какой-то степени, он одержим Наполеоном (запущенная форма «наполеонизма», как и у Раскольникова. Непонятно, чью душу больше терзает титаническая фигура Великого Полководца и Завоевателя - сына деревенского плотника из Франции или несостоявшегося студента-юриста из Петербурга?). Жюльен полагает, что если бы родился во времена Наполеона, то добился бы многого, а теперь ему приходится лицемерить и идти обходными путями, но он этого не хочет, это претит его природе. Он понимает, что ради достижения своих целей нужно хорошо относиться к людям, которых не любишь или даже презираешь. Да, он перешагивает через себя стиснув зубы, надевает на себя маску чуждого ему человека и пытается лицемерить, но у него редко это хорошо получается. Постоянно ломая себя об колено во имя Цели (такой себе цели, если уж говорить так, как есть), он постепенно теряет себя настоящего и теряет связь с реальностью, с окружающей действительностью. Слишком уж мятежен его дух, слишком сильно его понимание Чести и Достоинства (пусть и в весьма своеобразном ключе), слишком велика его гордыня, когда понимаешь, что твоё место рядом с Бессмертным Воителем на поле боя, но ты вынужден играть в скользкие игры с ничего из себя не представляющими ничтожествами из «высшего света». И этот взрывоопасный коктейль из эмоциональности, тщеславия, вспыльчивости и порой отчаянной храбрости всё-таки даёт свои горькие плоды. Врожденная огненная чувственность и дух противоречия, что раздирает его изнутри, берет верх над холодным умом циничного стратега. Страсть стать тем, кем он по своему происхождению никогда бы не смог стать, окончательно пожирает Сореля. Для достижения своей цели он уже не останавливается ни перед чем. И эта заносчивость, презрение к окружающим, чувство превосходства над ними и неуемное стремление взобраться наверх любыми путями становятся той причиной по которой Жюльен не может надолго задержаться где бы то ни было или найти общий язык с кем-либо. Его жизнь превращается в бесконечные эмоциональные качели и метания из крайности в крайность (и каждая новая - гораздо хуже предыдущей). Единственное, что получается у нашего «героя» хорошо – добиться желаемого, соблазнив дочь очередного своего благодетеля, отплатив ему, так сказать, за все хорошее. Но и здесь Сорель не может удержать удачу в руках. Продолжая свои метания и любыми способами избегая открыть своё сердце перед той, что действительно его полюбила. Запутавшись в масках, что он постоянно меняет, и уже неспособный просто быть собой - он теряет всё то немногое, что у него по-настоящему было, но которое он так и не научился ценить. В итоге выбранный им путь обиженной гордости, желания пробиться, не считаясь ни с чем и ни с кем, тщеславное стремление доказать, что он – лучший, приводят к закономерному концу, а «жили они долго и счастливо» не получается. Только под самый конец до Жюльена доходит, что не к тому счастью он стремился и не на ту гору карабкался (всё-равно слетел вниз, поскольку по-другому с ним и быть не могло). Однако… для него уже слишком поздно. Этот роман – отличная иллюстрация того, как НЕ надо себя вести во многих жизненных ситуациях. И в первую очередь, что нужно вести себя по отношению к другим людям искренне. Открыто. Оставаясь самим собой. Ну да, хорошо, если ты занимаешься политикой или везешь тайное донесение – можно и поиграть чужую роль. Надеть временную маску, а потом сбросить, как сбрасываешь перчатки. Но к чужому сердцу нужно прикасаться чистыми руками! Своими руками без каких-либо перчаток. А не изображать безразличие или пытаться показать себя тем, кем ты не являешься (и кем никогда являться не будешь, что важно). Чистые руки, холодная голова и горячее сердце! Вот наш девиз! Хотя… Стоп! Так дело не пойдёт. Вот этого нам не нужно. Это что-то из чекизма и красных заветов «Железного» Феликса Эдмундовича. Спасибо, но нет. Тогда скорее: прямой взгляд, чистая совесть, открытое сердце и спокойный мозг. Вот так будет как-то получше😏 P.S. Когда перечитывал роман в этот раз, то неоднократно ловил себя на мысли, что хочу переслушать что-нибудь из песен группы Chromatics или Ланы Дель Рей (композиции Salvatore, Dark Paradise или Ultraviolence идеально вписываются сюда). Или что-то из нью-романтиксов 80-х типа Red 7 - Heartbeat, Loz Netto - We Touch или Shriekback - Underwater Boys. Забавно, что роман первой половины 19 века вызвал у меня такой неслабый вайб по 80-м годам века 20-го. Но что-то «такое» в нём и правда есть. Недаром про «Красное и Черное» часто говорили, что Стендаль написал роман не своего времени. Нууу… определенно соглашусь с этим.
Пікір пайдалы ма? Иә (1)

«Кайдан ботан доро» (или же «Пионовый Фонаарь») от признанного классика жанра японских ужасов и одного из наиболее известных артистов-рассказчиков в жанре «ракуго» (дословно «падающие слова») - Санъютэя Энтё (Идзубути Дзирокити) - это один из ярчайших и культовых примеров японского «страшного рассказа» или даже мистического романа (хотя в дальнейшем мы понимаем, что в гораздо большей степени - психологического). В принципе, Санъютэй Энтё до сих пор считается в Японии лучшим представителем профессионального рассказывания за всю её историю и тем, кто вдохнул новую жизнь в жанр «кайдана». Его рассказы, идеи для которых он черпал из японской литературы, фольклора, легенд, национальной истории, современной ему жизни и собственной неисчерпаемой фантазии, были настолько успешным литературным сплавом, что обеспечили кайдану прочное место в японской культуре. Сам же «Пионовый Фонарь» стал едва ли не маяком для всех последующих авторов, которые работали с данным жанром, и едва ли не идеальным примером того, как должен выглядеть «каноничный» кайдан. Произведение одновременно является и сказкой, и сатирой, и мистикой, и драмой, оно не лишено изрядной доли юмора и философской мудрости – и всё это в одном флаконе весьма скромной по своим объёмам книги. «Пионовый фонарь» на редкость увлекательное произведение, которое читается «взахлёб» во многом из-за структуры своего построения. По сути, тут целых четыре сюжетных линии (центральная из них, ясное дело, «самурайская». Про Справедливость и Долг, Кровь и Месть, Про Сталь Меча и Сталь внутри нас), которые переплетаются и наслаиваются друг на друга, чтобы под конец придти к единому финалу, причём довольно неожиданному, но только для современного читателя. Для описываемых в «Пионовом Фонаре» событий Японии 18 века тут всё закономерно. И читатель не запутается в этих линиях, ибо каждая из них проистекает одна из другой. А сюжеты здесь будут на любой вкус: две пары откровенных злодеев, трагическая история любви, не исчезнувшей даже в могиле, потерянные и обретённые родственники и, конечно же, Месть, Честь и Преданность настоящего Самурая. Мистика здесь вписана довольно аккуратно, без излишеств, и является единой красной нитью проходящей через всё повествование. Порой читателю придётся невольно задуматься о том, а так ли уж невероятны события происходящие здесь? По форме - да, но вот по содержанию… очень большой вопрос. Потусторонняя составляющая здесь куда больше метафора, которая искусно раскрывает самую неприятную правду привычной реальности. Эта книга навряд ли напугает вас своими призраками и мстительными духами, но вот от поступков обычных людей из плоти и крови… хм, я полагаю, что легкий озноб вас точно проберёт. При этом «Пионовый Фонарь» читается очень легко и затягивает с первых страниц. Авторский слог лёгкий, насыщенный, но совершенно не перегруженный. Не в последнюю очередь это, естественно, заслуга переводческого таланта Аркадия Стругацкого (да-да, именно он сделал классический перевод на русский железобетонного памятника самурайского эпоса «Сказание о Ёсицунэ»). Иными словами, любому поклоннику классической японской литературы, мистических историй, сказаний о самураях, японской самобытности и фантазии - настоятельно рекомендуется к прочтению. Если вы ещё не читали «Пионовый Фонарь», то при знакомстве с ним он вас точно не разочарует.
Есть ли у «Пионового Фонаря» недостатки? Ноуп. Произведение выдержано в самых лучших традициях японской классики периода Эдо и прекрасно прошло проверку временем. Остальное, как и обычно, вопрос сугубо вкусовщины и вашего отношения к японской культуре и её наследию.
«Пионовый Фонарь» - это классическая притча о том, как любое деяние не проходит бесследно, кармическое воздаяние обязательно ждёт впереди и от этого бумеранга никуда не уйти. Пусть ты и Мастер Меча познавший все тайные техники кэндо и кэндзюцу, но не руби, как говорится, с плеча. Попробуй решить всё мягко, миром. Вот и молодой, образцово-показательный самурай Иидзима Хэйтаро пробовал урезонить пьяного нахала и буяна (скатившийся низкоранговый самурай), да только тот от этого всё больше наглел, и тогда Иидзима рубанул с плеча. В прямом смысле. Через много лет карма (как и ожидалось) его настигла, и, распутывая сложный клубок воздаяний, самурайских понятий о Чести, Жертвенности и Истинном Долге, Иидзима задумал и исполнил своё решение вопроса, и вдобавок расписал на бумаге, объясняя, как и почему он действует, и как следует действовать другим, чтобы максимально уравновесить запутанную ситуацию или вовсе не оказаться в ней (хотя как в ней не оказаться, если монета всё-равно всегда падает той стороной, которой должна упасть…). А ситуация запуталась тем, что через много лет к нему на службу (и попутно для обучения фехтованию) поступил Коскэ, сын того самого убиенного пьяницы, с намерением обучиться таинству боевого искусства владения клинком и отомстить за отца. Далее всё усложняется тем, что сюда вмешиваются и другие люди с их страстями, и потусторонние силы, что всегда соседствуют с человеком, но никогда ему невидимы, а обозначая своё присутствие разрывают ткань обыденной реальности, которая оказывается столь хлипкой, что диву даёшься (реальность оказывается не прочнее сна, и даже наоборот: возможно, что сон куда прочнее реальности), и предсказания гадальщика - физиогномиста Юсая, и толкования мудрого настоятеля храма Рёсэки, который в отличие от предсказателя, утверждающего, что ничего нельзя сделать, всё уже предрешено (как и всегда, Человек располагает, но Небеса предопределяют), даёт шанс и человеческому фактору. Рёсэки говорит, что Коскэ – хорошего, порядочного и доброго парня, которому суждено уравновесить Добро и Зло, – на пути неизбежно ждёт смертельная опасность, и только от него самого, его действий и неустрашимости зависит исход – победа или поражение, рана или смерть, а может, он и вовсе останется неуязвимым, но главное - не отступать. Не бояться. Идти вперёд до самого конца, каким бы он не был (сам итог не важен. Он второстепенен. Он несущественен. Лишь торжество воинского духа имеет значение). Быть Самураем (то бишь быть Воином в наивысшем понимании этого слова) до последнего вздоха, до последнего удара сердца, и если ему суждено погибнуть, то он должен встретить Смерть, как возлюбленную после очень долгой разлуки, чтобы взяв её за руку уйти по лунному мосту в Вечность. Удивительным образом (на самом деле, нет. Дуалистичность и двойная природа всего сущего всегда присутствовала в произведениях японских и китайских авторов. Вечная полярность концепции «Инь-Янь» присуща всему. Схватка между Тигром и Драконом никогда не закончится) в «Пионовом Фонаре» трагическое и комическое идут рядом, самоуничижение соседствует с оскорблениями, самопожертвование – с самым гнусным предательством. Любовь же и Смерть неразлучны, они всегда вдвоём. Их неразрывная связь - это обоюдоострое лезвие, которое рассекает напополам даже самую крепкую броню. Но самое главное, что в этом не особо объёмном произведение ярко отражается исконный японский менталитет, где законы кармы выше любых законов гуманизма. Ибо понятие «Кармы» сложнее и глубже любых наших представлений о Добре и Зле, оно превосходит любое наше понимание Хорошего и Плохого, Правильного и Неправильного. Карма чужда человеческой логики. Она обрушивает молотом своё наказание и одаривает небесными благами лишь исходя из ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, которую человек постичь, увы, не в силе. Не надо пытаться понять Карму, это невозможно. Надо просто принять. Это данность. Это предопределение. Иного не дано.
Пікір пайдалы ма? Иә (1)

Сказка - один из самых универсальных типов повествования, который можно встретить, пожалуй, в каждом уголке мира. С помощью сказок люди объясняли природные явления, например: как связано кваканье лягушек с дождем, почему у осьминога нет костей, а те или иные звери соперничают друг с другом. Сказки предостерегали от местной нечисти, учили морально-этическим нормам и уважению к одухотворенной природе. Данный сборник тщательно отобранных сказок от «МИФ» стремится не только показать мир классических японских сказок, но и продемонстрировать их связь с современностью. Если в период Эдо японские персонажи сказок и легенд - в первую очередь разнообразная «нечисть» - жили в гравюрах, театральных постановках и традиционных играх, то сейчас они активно интегрируются в анимацию, видеоигры, комиксы, кинематограф и моду. Большинство из представленных здесь сказок были подобраны исходя из актуальности сюжетов и задействованных в них героев. И скажу сразу, что сборник «Сказки Японии» прекрасно справляется с поставленной задачей, демонстрируя всё разнообразие и разносторонность этих удивительных сказочных историй Страны Восходящего Солнца. Любому, кто интересуется японской культурой и её влиянием на современный масс-культ, могу смело рекомендовать данную книгу.
Как таковые, недостатки отсутствуют. Сборник целостен и познавателен. Единственное из того, чего ему, возможно, не хватает, так это каких-либо иллюстраций. Это могли бы быть, как традиционные изображения в стилистике ямато-э периода Хэйан, так и нечто более современное, вроде уникальных сказочно-фэнтэзийных работ Ёситаки Амано. В остальном же, никаких нареканий. Но всем тем кому не интересна тема японской (или вообще азиатской) сказки и фольклора можно смело проходить мимо. Чисто дело вкуса.
Уверен, что многие ждут от сказок других стран чего-то диковинного и загадочного, но тут стоит оговориться о том, что целый пласт сюжетов интернационален. Многие сказочные архетипы героев тоже носят «мировой» характер, например старуха-ведьма, яга. Здесь стоит отметить, что в таких понятиях, как ведьма-яга, запреты и их нарушение, прохождение испытания, волшебный помощник или предмет-проводник, по сей день кроется сложная суть сказочного повествования. В глубине сказок зашифрованы и продолжают жить архаичные обряды инициации, универсальные архетипы и богатая символика. Если в традиционной культуре славянских народов ведьма-яга представлена той же самой Бабой-ягой, то, например, в Японии схожими с ней чертами обладает горная ведьма Ямауба. В самых разных регионах мира встречаются истории о трех братьях или чудесном ребенке, посланном богами бесплодной паре (в древней и средневековой Японии дети с удивительными способностями появляются из цветка персика или бамбукового стебля), поучительные сюжеты о жадности и щедрости, отваге и малодушии, Чести и подлости, да и многие-многие другие. А мотив оборотничества может принимать самые разные формы - от непосредственной трансформации тела до путешествия души героя в звериной форме во время сна. В сказках Ирландии местная версия русалки - «шелки» - становится тюленем, только когда надевает свою волшебную шубу-шкуру, а в Японии один из примеров подобного оборотничества - сказка про небесную деву с птичьими перьями. Подобно тому как ирландская шелки не может вернуться в море без своей шубки, японская дева не может отправиться в небо без волшебного оперения. Таким персонажам становится недоступен их привычный мир, а иногда и часть магических сил. Таким образом, читая японские сказки, мы обычно понимаем общий смысл, но также встречаем множество героев, предметов и элементов сюжета, неизвестных нам в силу иного культурного кода. Именно в этих деталях кроется своеобразие японского фольклора, который продолжает пользоваться популярностью и сопровождает человека практически повсеместно, по сей день влияя на массовую культуру. Подход японских творцов интересен тем, что они часто обращаются к традиционному фольклору, не адаптируя хрестоматийные сюжеты, а свободно осмысляя отдельные мотивы: персонажей, фрагменты повествования, магические свойства животных или предметов. Конечно, непосредственные адаптации сказок тоже присутствуют, причем как в произведениях, созданных сейчас, так и в тех, которые появились на заре современной массовой культуры Японии. Так, еще в первые десятилетия развития японской анимации, в 1925 году, был создан мультфильм «Гора, на которой оставляли умирать старух» - анимационная адаптация сюжета, отраженного в сказке «Гора Обасутэ» и связанного с практикой оставления стариков в горах. В 1940-х годах были сняты и показаны два агитационных мультфильма, использующих образ популярного персонажа Момотаро, героя одноименной сказки. В довоенное время он представлялся как храбрый молодой человек, победивший демонов. В лентах «Момотаро и его морские орлы» и «Божественные моряки Момотаро» он служит во флоте и сражается с вражеской армией; при этом сохранена характерная для оригинальных сказок связь героя с разумными животными. Таким образом, персонаж использован для милитаристской пропаганды, что в целом типично для японской массовой культуры времен ВМВ. В наши дни на экранах также появляются классические сказочные сюжеты. Например, в 2013 году вышла работа Исао Такахаты «Сказание о принцессе Кагуя» - авторское переложение одной из версий классической сказки о небесной принцессе Кагуя. Ее сюжет основан на повести XI века «Такэтори-моногатари» («Повесть о старике Такэтори»). Чаще всего Кагуя «рождается» из бамбука или иного растения, где ее находит старик. Затем он один или вместе со старухой-женой растит Лунную Деву как дочь.
Иногда принцесса появляется из другого растения или из яйца, также могут отличаться от версии к версии и прочие детали сюжета. В вошедшем в этот сборник варианте Кагуя появляется из соловьиного яйца, и поэтому первое имя, которым ее нарекают, - Угуису-химэ (Дева-Соловей). Исао Такахата в своем анимационном фильме активно использует визуальную эстетику средневековых свитков, делает множество отсылок к нюансам традиционной культуры и этикета. По содержанию и настроению лента получилась одновременно жизне-утверждающей, меланхоличной и философской. Привнеся свое видение в традиционный сюжет, Такахата тем не менее старался придерживаться его основной канвы. Помимо легко считываемых аллюзий, своеобразие японского фольклора ярко развивается в несметном множестве примеров их «фрагментарного» применения. Катализатором включения фантастических персонажей в массовую культуру во многом стали работы легендарного мангаки Сигэру Мидзуки. Именно он первым ввел в японский комикс, а затем и в анимацию огромное число сверхъестественных существ. В большинстве случаев в работах Мидзуки (а именно в его главном и очень продолжительном шедевре «Китаро с кладбища») зритель видит множество ёкаев. Также там присутствуют хэнгэ (животные-оборотни. Те же всем известные лисы-кицунэ или енотовидные собаки-тануки) и юрэй (традиционные привидения). И ёкаи, и хэнгэ, и юрэй часто становились главными или второстепенными героями японских средневековых сказок. Во многом именно благодаря этим сказкам известно о том, как они себя ведут, чем отличаются, какие у них характерные черты и места обитания. Снова обратившись к творчеству Исао Такахаты, можно обнаружить в мультфильме «Помпоко: война тануки в период Хэйсэй» полчища интересных созданий в классическом виде. Лента повествует о выживании енотовидных собак в эпоху массовой застройки. На первый план выведены два вида вышеупомянутых хэнгэ - тануки и кицунэ. По ходу сюжета тануки демонстрируют все свои характерные черты. Более того, в одной из сцен мультфильма старейшина рассказывает молодым тануки, что важно быть осторожными и не выдавать свое присутствие людям. Делает он это, используя камиси-бай (буквально «бумажный театр») - вид японского уличного театра, появившийся в XIX веке и очень популярный в ХХ. В небольшую деревянную сцену-раму (бутай) заранее в нужной последовательности помещают картинки, а в ходе повествования их по одной убирают, поясняя происходящее рассказом. Старейшина тануки показывает не простую историю — он пересказывает вариант сказки «Луна на ветке», по сюжету которой тануки, увлекшись своей магией превращений, вместо того чтобы одурачить прохожего путника, выдает себя. Другая важная часть повествования в этой ленте - Хякки яко, или Парад сотни духов. Это событие, по японским поверьям, происходит летней ночью на улицах человеческих поселений; в шествии участвуют самые разнобразные сверхъестественные сущности. Тануки в мультфильме имитируют Хякки яко с довольно благой целью: они пытаются лишь вызвать у людей религиозный трепет, боязнь старинных духов... и тем самым спасти свой лес, остановив строительство нового городского квартала. Чтобы передать идею, Такахата (как и некогда Мидзуки, только за один полнометражный мультфильм) вводит образы десятков, если не сотен сверхъестественных существ. В их числе и цутигумо (буквально «земляной паук») - ёкай с телом тигра и конечностями паука, - и цукумогами (например, бакэ-дзори - ожившая соломенная сандалия «дзори»), и многие другие.
Буквально цитируется классическая сказка-страшилка про ноппэрапона - ёкая с гладким пустым «лицом», которого путник встречает несколько раз за вечер и жутко пугается. Места действия и персонажи, которые оказываются ёкаями, могут меняться, но композиционно истории схожи. В данном сборнике эта сказка представлена непосредственно под названием «Ноппэрапон». Обращается к сказкам и сказочным героям и величайший Хаяо Миядзаки. Я ведь уже упоминал Ямаубу - горную ведьму? Так вот, Миядзаки перерабатывает этот образ в своих бессмертных «Унесенных призраками». Создавая Юбабу, он сделал ряд отсылок к классическим образам с гравюр - например, в сценах, когда ведьма дышит огнем, а ее волосы растрепаны и движутся сами по себе. Так, в сказке «Золотая цепь небесного бога» в качестве характеристики горной ведьмы упомянуто невероятное количество волос ведьмы, которые «живут словно сами по себе». Кроме того, она обладает хриплым дыханием и ест человечину (что опять же не редкость среди представительниц архетипа яги). Если же немного отступить от всевозможной японской нечисти, то в классической «Принцесса Мононоке» Миядзаки вводит древесных духов кодама, часто встречающихся в той или иной форме в сказках про старые деревья. Духи деревьев могут иметь разный характер, общаться, ссориться. А еще быть не слишком доброжелательно настроенными к одним людям и очень тепло - к другим. В сказке с грустным финалом «Шепчущий мост» девушка Оросу и дух дерева полюбили друг друга, а в сказке «Что сказало дерево мидзуки» древесный дух едва не отправил на тот свет местного богача.
Маэстро Миядзаки также использует образ духов леса - лесного бога в той же «Принцессе Мононоке» и хозяина леса в шикарном «Мой сосед Тоторо». В данных случаях речь идет о включении в анимацию важнейшего для японцев понятия ками. Ками - это главный оплот синтоизма, оказавший огромное влияние на фольклор и искусство страны. Это природные духи, которыми наполнен весь окружающий мир, каждый камень или река. Со временем самые почитаемые из них, такие как Аматэрасу (богиня Солнца), Райдзин (бог Грома и Молний), его брат Фудзин (бог Ветра) или Сусаноо (бог бури), заполучили собственные имена и сформировали пантеон японских божеств. Среди ками также встречаются иностранные переработанные образы, заимствованные из других религиозных систем, таких как буддизм. И наконец, есть народные безымянные ками: природные духи и души умерших предков, - их больше всего.
Такие ками чаще всего фигурируют в работах Миядзаки. Он использует абстрактное множество ками, включающее тех, что некогда прожили человеческую жизнь, и тех, что изначально относились к пространству духов. В упомянутом уже «Моем соседе Тоторо» продемонстрированы дружелюбные фантазийные образы лесных божеств, которые живут совсем рядом, но почти не пересекаются с людьми, только с детьми. Колоссальный лесной бог из «Принцессы Мононоке» отражает еще одну идею: в Японии распространена практика организации имеющих определенные границы святилищ для ками, но нередко бывают случаи, когда в качестве «тела ками» почитается целый лес или другой природный объект. Именно поэтому в японских сказках встречаются, например, обладающие собственной волей горы - перед нами предстает дух, ками горы. Однако гостят разнообразные ёкаи, хэнгэ и ками и в других произведениях массовой культуры, не только у студии «Ghibli». В образцовом переосмыслении классического дзидайгэки «Семь Самураев» Акиры Куросавы - аниме «7 самураев» - на фоне техно-фэнтезийного будущего встречаются всевозможное представители «потустороннего мира», а некоторые персонажи классической ленты тут предстают в буквальном редизайне образов из старинных японских легенд и преданий. Это же можно сказать и про культовый «Манускрипт Ниндзя» Ёсиаки Кавадзири созданного в жанре тямбара. Странствующий синоби и непревзойдённый Мастер Клинка - Дзюбэй Кибагами (прототипом для которого послужил герой самурайского эпоса и реальная историческая личность - великий мечник Ягю Дзюбэй Мицуёси) - на своём пути встречает не только рядовых демонов-они и их владык из «Восьми Демонов Кимона», но и различных ёкай и тэнгу - летающих существ, живущих в горах. Тэнгу обычно изображают с крыльями, когтистыми лапами и клювом или длинным носом. Иногда тэнгу ассоциировались с ямабуси - отшельниками-монахами (очень часто в ямабуси подавались бывшие самураи, которые отринули дорогу ронина, и поэтому являлись великолепными мастерами боя) уходившими жить в священные горы, где обитали ками. Благодаря этой ассоциации у тэнгу появилась и положительная трактовка: считается, что они могут оберегать горные святилища или учить достойных воинов фехтованию, в котором тэнгу нет равных. Образ тэнгу мы встречаем во множестве сказок, таких как «Дед Кобутори», «Треугольные хвосты», «Тэнгу и мальчик-служка» и других. Ну, а трагический образ печальной и смертельно опасной куноити (девушка-ниндзя) Кагэро - это и вовсе собирательный образ из целого ряда японских мифов, легенд и сказок (в первую очередь, конечно, образ Одинокой Владычицы Змей). Ярким образцом применения японского фольклора в XXI веке является также аниме «Василиск: Манускрипт ниндзя Кога» (лично для меня, наравне с полнометражными шедеврами Миядзаки, «Василиск» - это моё самое любимое произведение во всём жанре. Это уникальная работа, которая просто неспособна оставить равнодушным. Но только первая часть, ибо вторая откровенная ерунда) экранизирующая одноименную мангу Масаки Сэгавы созданную по мотивам романа Футаро Ямады «Манускрипт ниндзя Кога». «Василиск» вбирая в себя всё самое лучшее из японского фольклора, создаёт неповторимый микс из многочисленных мифов про синоби-но-моно и используя для этого комикс-стилистику каких-нибудь «Людей Икс» на стероидах, а стержнем самой истории делает ретеллинг шекспировских «Ромео и Джульетты» в раннюю эпоху правления сёгунов Токугава и на фоне извечного противостояния кланов ниндзя Ига и Кога. Это грандиозная работа заслуживающая только самых высоких оценок и самых громких оваций. К слову, полнометражная кино-экранизация «Василиска» под простым названием «Синоби» тоже достойна внимания. Да, она в значительной степени ужимает и перекраивает оригинальную историю, как в силу формата, так и в силу бюджета, но при этом остаётся верной духу первоисточника и вносит новые небезынтересные элементы в повествование. По итогу можно смело сказать, что настолько разностороннее включение различных сказок, легенд и национальной истории, как все вышеперечисленные примеры, в сегодняшнюю массовую культуру, с такой любовью и уважением к ним, но при этом с авторской свободой, просто не может не подкупать. На мой взгляд, это очень вдохновляющий образец того, как сохранять свою национальную идентичность и говорить о ней миру, как не позволять древним сюжетам терять актуальность и проносить любимые сказки и мифы через всю жизнь (ведь даже в работах мастера криминального нео-нуара Такеши Китано, который при этом ещё и снял лучший в истории, (правда, наравне с «Трудностями перевода» Софии Копполы), на мой взгляд, фильм на тему любви -«Сцены у моря», - нет-нет, да и мелькают где-то на фоне те самые мотивы и архетипы из сказочных сказаний его родины). А данный отличный сборник предлагает читателю прикоснуться к самым истокам этих удивительных, поразительных, странных, зловещих и весьма причудливых историй. P.S. И да, лучше всего погружаться в мир японской сказки под меланхолично-прекрасные мелодии Дзё Хисаиси или чарующе-волшебные композиции Нобуо Уэмацу.
Иногда принцесса появляется из другого растения или из яйца, также могут отличаться от версии к версии и прочие детали сюжета. В вошедшем в этот сборник варианте Кагуя появляется из соловьиного яйца, и поэтому первое имя, которым ее нарекают, - Угуису-химэ (Дева-Соловей). Исао Такахата в своем анимационном фильме активно использует визуальную эстетику средневековых свитков, делает множество отсылок к нюансам традиционной культуры и этикета. По содержанию и настроению лента получилась одновременно жизне-утверждающей, меланхоличной и философской. Привнеся свое видение в традиционный сюжет, Такахата тем не менее старался придерживаться его основной канвы. Помимо легко считываемых аллюзий, своеобразие японского фольклора ярко развивается в несметном множестве примеров их «фрагментарного» применения. Катализатором включения фантастических персонажей в массовую культуру во многом стали работы легендарного мангаки Сигэру Мидзуки. Именно он первым ввел в японский комикс, а затем и в анимацию огромное число сверхъестественных существ. В большинстве случаев в работах Мидзуки (а именно в его главном и очень продолжительном шедевре «Китаро с кладбища») зритель видит множество ёкаев. Также там присутствуют хэнгэ (животные-оборотни. Те же всем известные лисы-кицунэ или енотовидные собаки-тануки) и юрэй (традиционные привидения). И ёкаи, и хэнгэ, и юрэй часто становились главными или второстепенными героями японских средневековых сказок. Во многом именно благодаря этим сказкам известно о том, как они себя ведут, чем отличаются, какие у них характерные черты и места обитания. Снова обратившись к творчеству Исао Такахаты, можно обнаружить в мультфильме «Помпоко: война тануки в период Хэйсэй» полчища интересных созданий в классическом виде. Лента повествует о выживании енотовидных собак в эпоху массовой застройки. На первый план выведены два вида вышеупомянутых хэнгэ - тануки и кицунэ. По ходу сюжета тануки демонстрируют все свои характерные черты. Более того, в одной из сцен мультфильма старейшина рассказывает молодым тануки, что важно быть осторожными и не выдавать свое присутствие людям. Делает он это, используя камиси-бай (буквально «бумажный театр») - вид японского уличного театра, появившийся в XIX веке и очень популярный в ХХ. В небольшую деревянную сцену-раму (бутай) заранее в нужной последовательности помещают картинки, а в ходе повествования их по одной убирают, поясняя происходящее рассказом. Старейшина тануки показывает не простую историю — он пересказывает вариант сказки «Луна на ветке», по сюжету которой тануки, увлекшись своей магией превращений, вместо того чтобы одурачить прохожего путника, выдает себя. Другая важная часть повествования в этой ленте - Хякки яко, или Парад сотни духов. Это событие, по японским поверьям, происходит летней ночью на улицах человеческих поселений; в шествии участвуют самые разнобразные сверхъестественные сущности. Тануки в мультфильме имитируют Хякки яко с довольно благой целью: они пытаются лишь вызвать у людей религиозный трепет, боязнь старинных духов... и тем самым спасти свой лес, остановив строительство нового городского квартала. Чтобы передать идею, Такахата (как и некогда Мидзуки, только за один полнометражный мультфильм) вводит образы десятков, если не сотен сверхъестественных существ. В их числе и цутигумо (буквально «земляной паук») - ёкай с телом тигра и конечностями паука, - и цукумогами (например, бакэ-дзори - ожившая соломенная сандалия «дзори»), и многие другие.
Буквально цитируется классическая сказка-страшилка про ноппэрапона - ёкая с гладким пустым «лицом», которого путник встречает несколько раз за вечер и жутко пугается. Места действия и персонажи, которые оказываются ёкаями, могут меняться, но композиционно истории схожи. В данном сборнике эта сказка представлена непосредственно под названием «Ноппэрапон». Обращается к сказкам и сказочным героям и величайший Хаяо Миядзаки. Я ведь уже упоминал Ямаубу - горную ведьму? Так вот, Миядзаки перерабатывает этот образ в своих бессмертных «Унесенных призраками». Создавая Юбабу, он сделал ряд отсылок к классическим образам с гравюр - например, в сценах, когда ведьма дышит огнем, а ее волосы растрепаны и движутся сами по себе. Так, в сказке «Золотая цепь небесного бога» в качестве характеристики горной ведьмы упомянуто невероятное количество волос ведьмы, которые «живут словно сами по себе». Кроме того, она обладает хриплым дыханием и ест человечину (что опять же не редкость среди представительниц архетипа яги). Если же немного отступить от всевозможной японской нечисти, то в классической «Принцесса Мононоке» Миядзаки вводит древесных духов кодама, часто встречающихся в той или иной форме в сказках про старые деревья. Духи деревьев могут иметь разный характер, общаться, ссориться. А еще быть не слишком доброжелательно настроенными к одним людям и очень тепло - к другим. В сказке с грустным финалом «Шепчущий мост» девушка Оросу и дух дерева полюбили друг друга, а в сказке «Что сказало дерево мидзуки» древесный дух едва не отправил на тот свет местного богача.
Маэстро Миядзаки также использует образ духов леса - лесного бога в той же «Принцессе Мононоке» и хозяина леса в шикарном «Мой сосед Тоторо». В данных случаях речь идет о включении в анимацию важнейшего для японцев понятия ками. Ками - это главный оплот синтоизма, оказавший огромное влияние на фольклор и искусство страны. Это природные духи, которыми наполнен весь окружающий мир, каждый камень или река. Со временем самые почитаемые из них, такие как Аматэрасу (богиня Солнца), Райдзин (бог Грома и Молний), его брат Фудзин (бог Ветра) или Сусаноо (бог бури), заполучили собственные имена и сформировали пантеон японских божеств. Среди ками также встречаются иностранные переработанные образы, заимствованные из других религиозных систем, таких как буддизм. И наконец, есть народные безымянные ками: природные духи и души умерших предков, - их больше всего.
Такие ками чаще всего фигурируют в работах Миядзаки. Он использует абстрактное множество ками, включающее тех, что некогда прожили человеческую жизнь, и тех, что изначально относились к пространству духов. В упомянутом уже «Моем соседе Тоторо» продемонстрированы дружелюбные фантазийные образы лесных божеств, которые живут совсем рядом, но почти не пересекаются с людьми, только с детьми. Колоссальный лесной бог из «Принцессы Мононоке» отражает еще одну идею: в Японии распространена практика организации имеющих определенные границы святилищ для ками, но нередко бывают случаи, когда в качестве «тела ками» почитается целый лес или другой природный объект. Именно поэтому в японских сказках встречаются, например, обладающие собственной волей горы - перед нами предстает дух, ками горы. Однако гостят разнообразные ёкаи, хэнгэ и ками и в других произведениях массовой культуры, не только у студии «Ghibli». В образцовом переосмыслении классического дзидайгэки «Семь Самураев» Акиры Куросавы - аниме «7 самураев» - на фоне техно-фэнтезийного будущего встречаются всевозможное представители «потустороннего мира», а некоторые персонажи классической ленты тут предстают в буквальном редизайне образов из старинных японских легенд и преданий. Это же можно сказать и про культовый «Манускрипт Ниндзя» Ёсиаки Кавадзири созданного в жанре тямбара. Странствующий синоби и непревзойдённый Мастер Клинка - Дзюбэй Кибагами (прототипом для которого послужил герой самурайского эпоса и реальная историческая личность - великий мечник Ягю Дзюбэй Мицуёси) - на своём пути встречает не только рядовых демонов-они и их владык из «Восьми Демонов Кимона», но и различных ёкай и тэнгу - летающих существ, живущих в горах. Тэнгу обычно изображают с крыльями, когтистыми лапами и клювом или длинным носом. Иногда тэнгу ассоциировались с ямабуси - отшельниками-монахами (очень часто в ямабуси подавались бывшие самураи, которые отринули дорогу ронина, и поэтому являлись великолепными мастерами боя) уходившими жить в священные горы, где обитали ками. Благодаря этой ассоциации у тэнгу появилась и положительная трактовка: считается, что они могут оберегать горные святилища или учить достойных воинов фехтованию, в котором тэнгу нет равных. Образ тэнгу мы встречаем во множестве сказок, таких как «Дед Кобутори», «Треугольные хвосты», «Тэнгу и мальчик-служка» и других. Ну, а трагический образ печальной и смертельно опасной куноити (девушка-ниндзя) Кагэро - это и вовсе собирательный образ из целого ряда японских мифов, легенд и сказок (в первую очередь, конечно, образ Одинокой Владычицы Змей). Ярким образцом применения японского фольклора в XXI веке является также аниме «Василиск: Манускрипт ниндзя Кога» (лично для меня, наравне с полнометражными шедеврами Миядзаки, «Василиск» - это моё самое любимое произведение во всём жанре. Это уникальная работа, которая просто неспособна оставить равнодушным. Но только первая часть, ибо вторая откровенная ерунда) экранизирующая одноименную мангу Масаки Сэгавы созданную по мотивам романа Футаро Ямады «Манускрипт ниндзя Кога». «Василиск» вбирая в себя всё самое лучшее из японского фольклора, создаёт неповторимый микс из многочисленных мифов про синоби-но-моно и используя для этого комикс-стилистику каких-нибудь «Людей Икс» на стероидах, а стержнем самой истории делает ретеллинг шекспировских «Ромео и Джульетты» в раннюю эпоху правления сёгунов Токугава и на фоне извечного противостояния кланов ниндзя Ига и Кога. Это грандиозная работа заслуживающая только самых высоких оценок и самых громких оваций. К слову, полнометражная кино-экранизация «Василиска» под простым названием «Синоби» тоже достойна внимания. Да, она в значительной степени ужимает и перекраивает оригинальную историю, как в силу формата, так и в силу бюджета, но при этом остаётся верной духу первоисточника и вносит новые небезынтересные элементы в повествование. По итогу можно смело сказать, что настолько разностороннее включение различных сказок, легенд и национальной истории, как все вышеперечисленные примеры, в сегодняшнюю массовую культуру, с такой любовью и уважением к ним, но при этом с авторской свободой, просто не может не подкупать. На мой взгляд, это очень вдохновляющий образец того, как сохранять свою национальную идентичность и говорить о ней миру, как не позволять древним сюжетам терять актуальность и проносить любимые сказки и мифы через всю жизнь (ведь даже в работах мастера криминального нео-нуара Такеши Китано, который при этом ещё и снял лучший в истории, (правда, наравне с «Трудностями перевода» Софии Копполы), на мой взгляд, фильм на тему любви -«Сцены у моря», - нет-нет, да и мелькают где-то на фоне те самые мотивы и архетипы из сказочных сказаний его родины). А данный отличный сборник предлагает читателю прикоснуться к самым истокам этих удивительных, поразительных, странных, зловещих и весьма причудливых историй. P.S. И да, лучше всего погружаться в мир японской сказки под меланхолично-прекрасные мелодии Дзё Хисаиси или чарующе-волшебные композиции Нобуо Уэмацу.
Пікір пайдалы ма? Иә (1)

Новая публикация русского перевода древнекитайского литературного памятника «Шань хай цзин» («Каталог гор и морей»), да ещё и в потрясающем оформлении с иллюстрациями сверх-талантливого художника Шань Цзэ (Ли Ифань) - это поистине не самое ординарное событие, которое способно обрадовать каждого ценителя древнекитайской культуры и истории. «Каталог» является совершено уникальным и бесценным источником знаний по истории наук в Древнем Китае, в особенности по географии, ботанике, зоологии, народной медицине, а также по мифологии, народным верованиям, философским воззрениям и религии Поднебесной. Этот памятник позволяет проникнуть в ту область истории культуры Древнего Китая, которая до сих пор привлекала меньше внимания, чем многие другие ее аспекты. Введение в широкий оборот такого рода источников расширяет наше представление о круге интересов народов Древнего Китая, и в частности их интереса к познанию окружающего мира, природных явлений, духовных и оккультных практик. «Каталог Гор и Морей», в котором сплавлены в единое целое элементы различных отраслей науки, этнографии, искусства и религии, требует самого всестороннего и углубленного изучения, открывая перед внимательным читателем необыкновенный букет знаний о Китае периода IV-I вв. до н. э. «Каталог гор и морей» - анонимный памятник, его авторство до сих пор вызывает ожесточенные споры в китаеведческой среде, сложный по своему составу и содержанию, - представляет собой свод, по существу, самостоятельных «сочинений», основанных, в свою очередь, на длительной традиции, включавшей разновременные пласты положительных знаний, мифологии, верований и народного фольклора. Впервые упомянутый в «Исторических записках» Сыма Цяня (145-87 гг. до н. э.) «Каталог» успешно прошёл через два тысячелетия человеческой истории, чтобы открыть перед современным читателем целый ряд удивительных вещей относящихся к китайской цивилизации во всём её богатом многообразии. А оригинальные и очень живописные иллюстрации Шань Цзэ помогут вам окунуться с головой в мир тайны, мифа и его фантасмагорических обитателей.
Скажем прямо, что это не самое легкое чтиво для неподготовленного читателя. Человеку никак незнакомому с древне-китайской историей и того места, что в ней занимала мифологическая составляющая, точно не стоит открывать эту книгу. Заблудиться и потеряться в обилии названий, терминов, сносок и множественных аллюзий можно уже на самых первых страницах. И многочисленные иллюстрации дела никак не поправят. Книга однозначно недружелюбно относится к новичкам и «порог вхождения» тут достаточно высок. Без знания хотя бы общего контекста становления Древнего Китая, его наук, религии и верований, тут просто невозможно разобраться. Лучше начинать с чего-то попроще, как я думаю. Для тех же, кто имеет необходимый базис и представление о том, что являет собой данная книга, как говорится, вэлкам😉
«Легенды Гор и Морей» известны в одном списке-редакции собирателя, редактора, комментатора и поэта Го Пу (276-324 гг. н. э.). Этот список, положенный в основу всех последующих изданий, состоит из 18 цзюаней (свитков, или глав в современном понимании слова), что указано и в его названии («Каталог гор и морей в 18 цзюанях»). В заглавие произведения входит термин «цзин» - «Шань хай цзин» (досл.
«Цзин гор и морей»); он же выносится в заглавие каждого свитка - цзюаня: «Нань шань цзин» («Цзин Южных гор»); он же употреблен и при выделении отдельных частей в первых пяти цзюанях (из них и состоит данная книга) - «Нань цы эр цзин» («Второй цзин Южных гор») и т. д. Термин «цзин» означает буквально «основа» (то бишь «база», ага) в отличие от «вэй» - «уток». От этого значения у него образовались синонимы: неизменное, правильное, ортодоксальное, основа учения; классические, основные книги учения. «Вэй» же стал пониматься как его антоним - поперечные линии, апокрифические, неортодоксальные книги. Со временем «цзин» вошел в название канона конфуцианской религии - «Уцзин» («Пятикнижие»), «Саньшицзин» («Тринадцатикнижие») и т. д. В европейской синологической литературе он получил не совсем адекватный перевод - «классические книги», «классическая литература», «классика». При этом подразумевались лишь книги конфуцианского канона. Тот же термин в названии даосского и буддийского религиозных сводов переводился как «канон». Но «цзин» входил в названия не только религиозных книг, и тогда его переводили как «трактат», «классик», а чаще всего - «книга», хотя прямого такого значения у него нет. Учитывая же содержание и стиль данного литературного памятника, включающего перечни гор, рек, животных, растений, мифологических персонажей и существ, по-видимому, наиболее подходящим для передачи смысла словом стал «каталог» (или же «список»), которым обозначались сходные по жанру произведения древнегреческой литературы. Вот таким вот совсем «нехитрым» образом данная работа и получила свой канонический перевод - «Каталог Гор и Морей». По содержанию и стилю «Каталог гор и морей» распадается на две резко отличные друг от друга части: первую, называемую в литературе «Каталог гор» или «Каталог Пяти сокровенных гор» («Шань цзин» или «У цзан цзин» - первые 5 цзюаней), и вторую - «Каталог морей» («Хай цзин» - 13 остальных цзюаней). Основным содержанием первой части, составляющей по объему примерно две трети всего памятника, является описание континентального Китая с элементами зоогеографии, ботанической географии, народной медицины, народных верований и мифологии. Во второй части - в виде лапидарных перечней и отдельных фрагментов - даются сведения о землях и народах, которые, согласно цинь-ханьской синоцентрической концепции, находились на окраинных землях и за пределами обитаемого мира. Эти сведения - по большей части мифологического характера - содержат фрагменты мифов о предках, героях, их генеалогии и фантастических существах живущих где-то на грани сна и яви. В первой части «Каталога» материал расположен по принципу пространственной ориентации по пяти кардинальным точкам, соответственно в нее входят пять каталогов: «Каталог Южных гор», «Каталог Западных гор», «Каталог Северных гор», «Каталог Восточных гор», «Каталог Центральных гор». Как уже говорилось, каждый каталог, в свою очередь, включает в себя несколько «книг» (количество их неодинаково по отдельным цзюаням). «Записи об искусствах и письменности» и «Истории Ранней Хань» за авторством Бань Гу (32-92 гг. н. э.) говорят о том, что согласно традиции, «Каталог» был выгравирован на священных сосудах помощником мифического покорителя потопа и устроителя земли Великого Юя. По мифологической версии, вошедшей в модифицированном виде в историческую традицию, Великий Юй, борясь с потопом, пересек землю от края до края, передвигая горы и рассекая их, чтобы дать сток вод в Великое Море. Устраивая землю, Юй якобы познал не только её горы и реки, но и их духов; животных, их населяющих, все растения, а также узнал о ближних и дальних народах. Все эти «заслуги» обеспечили Юю традиционное положение покровителя географии. Его именем был назван географический раздел древнейшего свода исторических преданий - «Труды Юя» («Юй гун»). Отсылки к тому, что именно Великий Юй и его сподвижник создали «Каталог гор и морей», имеются у Ван Чуна (27-97 гг. н. э.) в его трактате «Критические рассуждения». Также сравнительно подробная запись о «написании» Юем и его помощником «Каталога» имеется и в позднеханьском литературном монументе «Весна и Осень У и Юэ» периода Сражающихся Царств. Согласно легенде, все эти «записи», а также изображения духов, удивительных животных, птиц и растений, описанных в «Каталоге гор и морей», помощник Великого Юя выгравировал на девяти ритуальных сосудах. Впоследствии эти сосуды были, само собой, утрачены и вновь найдены лишь при ранней династии Хань (II в. до н. э.); с этих-то мифических треножников и был списан известный нам текст «Каталога»; с них же срисованы и изображения описанных в памятнике удивительных птиц, животных, растений, духов, демонов и чудовищ. Кто же в действительности написал и «обрисовал» все чудеса, которыми полнится «Каталог», по сей день остаётся тайной и полнейшей загадкой, которую уже навряд ли кто-либо сможет разгадать… Единственное, что можно наверняка утверждать, так это то, что памятник восходит ко временам раннего ханьского правления. И более ничего. Представьте себе, что мы бы ничего не знали об авторе «Илиады» или «Одиссеи», а просто имели бы их на руках, как исторический факт. Представили? Ну, вот с «Каталогом гор и морей» примерно такая история и получилась. И это определенно придаёт «Каталогу» своеобразного шарма. Кто бы ни был автором сего монументального труда, но эрудированности, фантазии и находчивости ему точно было не занимать. Неизвестный и безымянный автор (а может и авторы) предлагает читателю заглянуть в удивительный и поражающий воображение мир Поднебесной на заре времен, прогуляться по его живописным ландшафтам, познакомиться (хотя порой знакомства лучше избегать. Дольше проживёте) с его обитателями и узнать целую уйму вещей о которых вы даже не догадывались. «Легенды Гор и Морей» - это самое настоящее литературное путешествие, которое может затянуться на очень продолжительное время.
«Цзин гор и морей»); он же выносится в заглавие каждого свитка - цзюаня: «Нань шань цзин» («Цзин Южных гор»); он же употреблен и при выделении отдельных частей в первых пяти цзюанях (из них и состоит данная книга) - «Нань цы эр цзин» («Второй цзин Южных гор») и т. д. Термин «цзин» означает буквально «основа» (то бишь «база», ага) в отличие от «вэй» - «уток». От этого значения у него образовались синонимы: неизменное, правильное, ортодоксальное, основа учения; классические, основные книги учения. «Вэй» же стал пониматься как его антоним - поперечные линии, апокрифические, неортодоксальные книги. Со временем «цзин» вошел в название канона конфуцианской религии - «Уцзин» («Пятикнижие»), «Саньшицзин» («Тринадцатикнижие») и т. д. В европейской синологической литературе он получил не совсем адекватный перевод - «классические книги», «классическая литература», «классика». При этом подразумевались лишь книги конфуцианского канона. Тот же термин в названии даосского и буддийского религиозных сводов переводился как «канон». Но «цзин» входил в названия не только религиозных книг, и тогда его переводили как «трактат», «классик», а чаще всего - «книга», хотя прямого такого значения у него нет. Учитывая же содержание и стиль данного литературного памятника, включающего перечни гор, рек, животных, растений, мифологических персонажей и существ, по-видимому, наиболее подходящим для передачи смысла словом стал «каталог» (или же «список»), которым обозначались сходные по жанру произведения древнегреческой литературы. Вот таким вот совсем «нехитрым» образом данная работа и получила свой канонический перевод - «Каталог Гор и Морей». По содержанию и стилю «Каталог гор и морей» распадается на две резко отличные друг от друга части: первую, называемую в литературе «Каталог гор» или «Каталог Пяти сокровенных гор» («Шань цзин» или «У цзан цзин» - первые 5 цзюаней), и вторую - «Каталог морей» («Хай цзин» - 13 остальных цзюаней). Основным содержанием первой части, составляющей по объему примерно две трети всего памятника, является описание континентального Китая с элементами зоогеографии, ботанической географии, народной медицины, народных верований и мифологии. Во второй части - в виде лапидарных перечней и отдельных фрагментов - даются сведения о землях и народах, которые, согласно цинь-ханьской синоцентрической концепции, находились на окраинных землях и за пределами обитаемого мира. Эти сведения - по большей части мифологического характера - содержат фрагменты мифов о предках, героях, их генеалогии и фантастических существах живущих где-то на грани сна и яви. В первой части «Каталога» материал расположен по принципу пространственной ориентации по пяти кардинальным точкам, соответственно в нее входят пять каталогов: «Каталог Южных гор», «Каталог Западных гор», «Каталог Северных гор», «Каталог Восточных гор», «Каталог Центральных гор». Как уже говорилось, каждый каталог, в свою очередь, включает в себя несколько «книг» (количество их неодинаково по отдельным цзюаням). «Записи об искусствах и письменности» и «Истории Ранней Хань» за авторством Бань Гу (32-92 гг. н. э.) говорят о том, что согласно традиции, «Каталог» был выгравирован на священных сосудах помощником мифического покорителя потопа и устроителя земли Великого Юя. По мифологической версии, вошедшей в модифицированном виде в историческую традицию, Великий Юй, борясь с потопом, пересек землю от края до края, передвигая горы и рассекая их, чтобы дать сток вод в Великое Море. Устраивая землю, Юй якобы познал не только её горы и реки, но и их духов; животных, их населяющих, все растения, а также узнал о ближних и дальних народах. Все эти «заслуги» обеспечили Юю традиционное положение покровителя географии. Его именем был назван географический раздел древнейшего свода исторических преданий - «Труды Юя» («Юй гун»). Отсылки к тому, что именно Великий Юй и его сподвижник создали «Каталог гор и морей», имеются у Ван Чуна (27-97 гг. н. э.) в его трактате «Критические рассуждения». Также сравнительно подробная запись о «написании» Юем и его помощником «Каталога» имеется и в позднеханьском литературном монументе «Весна и Осень У и Юэ» периода Сражающихся Царств. Согласно легенде, все эти «записи», а также изображения духов, удивительных животных, птиц и растений, описанных в «Каталоге гор и морей», помощник Великого Юя выгравировал на девяти ритуальных сосудах. Впоследствии эти сосуды были, само собой, утрачены и вновь найдены лишь при ранней династии Хань (II в. до н. э.); с этих-то мифических треножников и был списан известный нам текст «Каталога»; с них же срисованы и изображения описанных в памятнике удивительных птиц, животных, растений, духов, демонов и чудовищ. Кто же в действительности написал и «обрисовал» все чудеса, которыми полнится «Каталог», по сей день остаётся тайной и полнейшей загадкой, которую уже навряд ли кто-либо сможет разгадать… Единственное, что можно наверняка утверждать, так это то, что памятник восходит ко временам раннего ханьского правления. И более ничего. Представьте себе, что мы бы ничего не знали об авторе «Илиады» или «Одиссеи», а просто имели бы их на руках, как исторический факт. Представили? Ну, вот с «Каталогом гор и морей» примерно такая история и получилась. И это определенно придаёт «Каталогу» своеобразного шарма. Кто бы ни был автором сего монументального труда, но эрудированности, фантазии и находчивости ему точно было не занимать. Неизвестный и безымянный автор (а может и авторы) предлагает читателю заглянуть в удивительный и поражающий воображение мир Поднебесной на заре времен, прогуляться по его живописным ландшафтам, познакомиться (хотя порой знакомства лучше избегать. Дольше проживёте) с его обитателями и узнать целую уйму вещей о которых вы даже не догадывались. «Легенды Гор и Морей» - это самое настоящее литературное путешествие, которое может затянуться на очень продолжительное время.
Пікір пайдалы ма? Иә (1)

Идейное и значительно более расширенное продолжение «Японских Легенд» с великолепными иллюстрациями от той же Loputyn (Джессика Чоффи). Теперь на суд читателя представлены фольклорные предания и городские легенды Китая, Кореи и, естественно, Японии. Богатейший материал, без преувеличения. Книга разделена на семь разделов и каждый из них включает в себя качественный пересказ, как хорошо известных историй, вроде всеми любимой о «Снежной Госпоже» - Юки-онна - или о Расёмоне, увековеченном бессмертными шедеврами Рюноскэ Акутагавы и Акиры Куросавы в литературе и кино, или о проклятье Окику, так и известных в куда меньшей степени, но не менее цепляющих, загадочных и печальных. Приятным бонусом в конце книги идёт список справочной литературы (для интересующихся подобной тематикой может оказаться весьма полезным) и развёрнутые комментарии научного редактора относительно той или иной истории. И всё это в просто потрясающем оформлении от МИФ и c шикарным визуалом Loputyn. Для любого поклонника/поклоницы азиатского народного фольклора, таинственно-зловещих рассказов о сверхъестественном и мрачных городских легенд - эта книга станет настоящим подарком, который украсит собой его/её книжную коллекцию.
Нет таких. Книга замечательна во всех отношениях. Если в «Японских Легендах» были вопросы к слишком малому объёму излагаемого материала, то в «Проклятых душах» с этим полный порядок. Больше никаких кратких и очень сжатых пересказов. Все представленные здесь истории, предания и легенды трёх стран поданы читателю в полноценном виде.
«Проклятые души» являются, по своей сути, альманахом всевозможных «страшных историй», легенд и притч из сверх-богатого фольклорного кладезя Японии, Китая и Кореи. Основной упор тут делается именно на духах и призраках, которые вернувшись из загробного мира (или неприкаянно скитающихся всё ещё по нашему) хотят завершить все свои дела в мире смертных. Найти искупление, осуществить месть, спасти от беды любимого человека, восстановить попранную при жизни Честь, попросить об услуге или же просто побалагурить хорошенько. Основные мотивы их появлений традиционны для любой культуры: Покаяние, Месть и Любовь. Не призраком отца Гамлета едины, как говорится. Всем этим ghost story на азиатский лад тут уделено три раздела из семи: «Традиционные Истории о Призраках и Духах» (народное творчество так, как оно есть. Вроде «Цветов душистого османтуса», «Телеги-Призрака» и «Говорящего футона»), те самые «Проклятые Души» (наиболее мрачный раздел всей книги, пожалуй. «Проклятие Оивы», «Длинные черные волосы» и «Статуя Дзидзо и служанка Омацу» врезаются в память основательно) и «Просьбы Призраков» (запоминается весьма драматичными «Девушка из лавки, где торгуют маслом» и «Призрак, который кормил ребенка»). Но не одними только пассажирами лодки Харона богата книга. Четыре других разделы посвящены «Людям, которые избежали беды» (самый короткий раздел книги. В него входит только одна история про «Снежную женщину». Думаю, вы догадываетесь о ком там пойдёт речь…), «Демонам и Волкам» (сказ о Расёмоне находится именно тут. Да и другие «они» тут тоже в наличии), «Городским Легендам» (практически полный набор наиболее известных от «Окику, живой куклы» до «Ханако-сан», от «Сукима-онна» до «Смертельной игры “Коккури-сан”»), ну, и «Историям о Чудесах» (они тут представлены очень разнообразно. Самый обширный раздел книги. Здесь целый ряд замечательных рассказов и рассказиков, которые значительно отличаются по тональности от шести остальных разделов и уже далеко не такие гримдарковые или трагичные. Отдельно отмечу «Волшебную вуаль», «Источник юности», «Историю Химэ», «Брат и Сестра», «Девушку у Великой Стены», «Странное приключение Лю» и «Зависть приносит страдания». На мой взгляд, эти истории настоящие скрытые жемчужинки этой книги). Вообщем определенно есть, что почитать. Есть и на что посмотреть, ибо иллюстрации в книге действительно топ-левел. И есть над чем подумать потом… Да, невозможно поместить в одну книгу ВСЮ богатую и накопленную веками фольклорную составляющую трёх таких стран как Китай, Япония и Корея. Никакой книги не хватит на это. Но «Проклятые Души» подходят максимально близко к той задаче, чтобы заинтриговать и увлечь нового читателя, попутно порадовав таким изданием и тех, кто уже не первый год в теме, так сказать. Это заслуживает искренней похвалы и все 12/10 по оценочной шкале.
Пікір пайдалы ма? Иә (1)

Отличный сборник готических новелл от «Азбуки» в их серии «Мистических Историй». Сборник сосредоточен, по большей части, на, так называемых, «ghost story» (истории про приведений всегда были одним из ключевых поджанров готического рассказа) с их мрачными особняками в викторианском стиле, тёмными тайнами, кровавым прошлым некоторых из персонажей и, конечно же, неприкаянными призраками, которые являются в полнолуние и несут героям дурные предзнаменования (хотя и не всегда). Короче говоря, всё в самых лучших традициях. Все рассказы подобраны ровно, нет провальных или скучных. Есть просто чуть более интересные и чуть менее, но по-прежнему интересные. А есть и вовсе захватывающие дух (особый привет Джерому К. Джерому и его «Женщине с горного пастбища», Дикенсу с его «Судебным процессом по делу об убийстве», Чарльзу Л. Янгу с «Долгом Чести», Генри Джеймсу с «Третьей стороной» и Драйзеру с «Рукой»), которые после прочтения надо ещё полностью осознать, находясь при этом в лёгком оцепенении… Отдельно порадовали комментарии с пояснениями от С.А.Антонова в конце книги. Кратко он рассказывает об авторах тех или иных новелл, их творчестве в целом и про появление на свет той истории, что вошла в сборник. И познавательно, и где-то даже поучительно. В общем и целом, «Истории, рассказанные после ужина» - очень достойный сборник. Смело можно рекомендовать всем любителям готической прозы и атмосферы середины-конца 19 века и начала 20-го.
Возможно, что подобный сборник больше предназначен для чтения пасмурными и дождливыми осенними вечерами, нежели в жаркое летнее время, однако… это никак не отнести к недостаткам :) Тут чисто вопрос восприятия каждого отдельного читателя. Возможно, что кто-то будет ждать от этих рассказов ужасов «на старый лад», олдскульных ужастиков, что называется, и будет несколько разочарован, что действительно «страшного-ужасного» там не особо много. Лучше не ждите. Мистика и Готика - это не про ужасы (по крайней мере, в привычном и устоявшемся понимании сего жанра). Страх тут вызывает только тот факт, что деяние рук человеческих, куда зловещее и изощреннее, нежели происки любых потусторонних сил. Да и сами эти силы тут куда значительнее олицетворяют собой возмездие и кару за прошлые прегрешения человека. Скатать договорняк с дьяволом ни у кого и никогда не получится. Иными словами, никаких серьёзных минусов у данной книги, по большому счёту, не обнаружено.
«Истории, рассказанные после ужина» вобрали в себя весь цвет готических рассказов посвящённых призракам, преступлениям прошлого и мести. Как от всем хорошо известных мировых классиков, так и от куда менее известных авторов, которые, тем не менее, прекрасно демонстрируют своё писательское мастерство на страницах этого сборника. Тут вам и прекрасный Ле Фаню (без Кармиллы, но зато с «Деревенским Задирой». Крайне занимательная и ироничная история), и Элизабет Гаскелл с «Рассказом старой няньки», который действительно может нагнать жути, да ещё и при этом обладая легким флёром «Грозового Перевала» Бронте, и совсем уже сейчас забытая Роза Малхолланд с романтично-трагичной «Одержимой органисткой из Херли-Берли», и те самые «Истории, рассказанные после ужина» от Д.К.Джерома, где он может и повеселить читателя, так и заставить бегать мурашки по его телу, и великий Натаниэль Готорн буднично и обыденно повествующий нам о «Призраке доктора Гарриса», и откровенно меня удививший (и местами посмешивший) Г.Уэллс с «Призраком у очага» и «Неопытным привидением», и человек, который посвятил практически всё своё творчество гоуст сторисам - Монтегю Р. Джеймс - и сразу с тремя рассказами (от себя отмечу два из них: «Мартинова Доля» и «Злокозненность мира вещей»), ну, и, конечно, обожаемый мной за «Сердце Тьмы» Джозеф Конрад с «Харчевней двух ведьм». И это ещё далеко не всё! Сборник объёмен и сможет угодить вкусу самого взыскательного читателя, который одну-две истории для себя точно здесь найдёт. Поскольку истории тут, хоть и связаны общей нитью жанра и тематики, но настолько стилистически, экспозиционно, структурно и идейно разные, что порой разительность отличий одного рассказа от другого просто колоссальна. Словно день и ночь, черное и белое. На любой вкус и цвет, как говорится. Итак, после ужина все собираемся в гостиной, задергиваем шторы, тушим свет, зажигаем свечи и… самое время послушать какую-нибудь необычную или жутковатую историю 😉💀
Пікір пайдалы ма? Иә (2)

«You are not wrong, who deem. That my days have been a dream; Yet if hope has flown away. In a night, or in a day. In a vision, or in none. Is it therefore the less gone? All that we see or seem Is but a dream within a dream.» Эдгар Аллан По. «Лигейя» является собранием лучших и известнейших рассказов и новелл от великого «Бостонского Сумеречного Гения». Человек, который стал Иконой американского романтизма и Отцом классического детектива, американского готического рассказа, современной формы, так называемых, «страшных историй» (ну, а точнее жанра «ужасы») и всего жанра психологической прозы, а также давший первоначальную основу тому, что практически через столетие после его смерти окрестят жанром «нуар» (Э.А.По наравне с Ф.М.Достоевским, пожалуй, главные в XIX веке предвестники жанра, которому предстояло перевернуть с ног на голову весь кинематограф 40-50-х годов XX века). Человек, что предвосхитил литературу декаденства своими историями наполненными иррациональностью, мистицизмом, обречённостью, аномальностью изображаемых состояний, зыбкостью обыденной реальности и всепоглощающей силой сновидений (всегда помни о том, что «Все, что мы видим или видели всего лишь сон внутри сна»). Человек, избравший своими музами Любовь и Смерть, ибо для него не было ничего сильнее этих двух состояний, одно из которых переходно, а другое конечно. Человек, проложивший дорогу в будущее для всех «Мастеров Ужаса» от Лафкрафта до Кинга, но при своей жизни отчаянно страдавший от постоянной бедности, непонимания, вызванных этим психических проблем и алкоголизма. Человек, чьё творчество, как минимум, наполовину было построено вокруг его трагической любви к своей тяжело больной жене и тех последствий к которым привела её безвременная кончина. Человек, чья неоднозначность поступков и нелогичность действий (и это было поведением автора, который первым в литературе показал превосходство «дедуктивного метода» при расследовании преступления, важности критического и логического мышления, и умения грамотно выстраивать логические цепочки) до сих пор ставят в тупик, даже самых серьёзных исследователей его жизненного и творческого пути. Человек, мировоззрение которого просто не поддается однозначному определению и структурированности. Его общественные, философские и эстетические идеи отличаются сложностью, противоречивостью и нестабильностью, как и вся его личность. Элементы материализма вписываются в общую идеалистическую картину мира, рационалистический подход бесконфликтно сосуществует с интуитивистским, опережающие своё время научные прозрения сочетаются с ревностной приверженностью к консервативным взглядам и т. д. Однако, несмотря на всю сложность и противоречивость, его мировоззрение обладает неким единством и общей направленностью: его взгляд на мир пессимистичен, а сознание — трагично. Он не верил в идеи социального равенства и демократии, которые тогда начинали обуревать молодое американское государство. Он также не верил в народовластие, так как считал, что оно несёт с собой опасность потери свободы, когда подавляется индивидуальность, а политиканы устанавливают господство над «толпой», манипулируя ею. Он был уверен, что стремление перестроить общество на основах социальной справедливости принесёт гораздо больше бед, чем существование в нём естественной иерархии. В его понимании равенство — это не равноправие перед законом, а всеобщее усреднение, губительное растворение личности в массе, бездуховном конформизме. Человек, который являлся совершенно бескомпромиссным и безжалостным литературным критиком, что уничтожал в пепел десятки своих современников за неоригинальность и посредственность. И, разумеется, наживший себе не один десяток врагов. Человек, чья жизнь и, в особенности, его таинственная (И это по сей день. Все медицинские записи и документы, включая свидетельство о смерти, если они вообще существовали, были утеряны) смерть породила такое количество небылиц, сплетен, слухов и домыслов, что хватило бы на отдельный роман весьма примечательных размеров. В этом вопросе с ним мог бы «посоперничать» лишь Эмброуз Бирс, который сам превратился в полу-мифологическую фигуру в американской культуре. Человек, чьими прямыми литературными наследниками и последователями смело можно считать А. Конан Дойла, Агату Кристи, Ж. Верна, Г. Уэллса, С. Крейна, А. Бирса, Р. Л. Стивенсона, Г. Джеймса и многих других. Имя этого Человека было: Эдгар Аллан По. И после себя он оставил на литературном небосклоне такое сияние, что оно сравнимо лишь с рассекающей небо кометой. Но если пылающий след кометы быстро затухает, то его сияние никогда не меркнет. Как однажды про По написал Александр Блок: «Эдгар По — воплощённый экстаз, „планета без орбиты“ в изумрудном сиянии Люцифера, носивший в сердце безмерную остроту и сложность, страдавший глубоко и погибший трагически». А этот сборник, вобравший в себя практически всё лучшее из прозы По, - это лишь в очередной раз подтверждает.
Не обнаружено. Даже людям, которые на дух не переносят мрачные тона, депрессивность повествования, сложные темы связанные с обратной стороной человеческой природы и психики, безнадёгу финала и неоднозначные философские рассуждения, я бы порекомендовал ознакомиться хотя бы с парой новелл из этого собрания. Любая из них не займёт много времени, они весьма короткие и лаконичные, и при этом хлёсткие, держащие в напряжении и невероятно увлекательные. Да, здешние сюжеты и темы не из простых, но читаются они удивительно легко и быстро. Кто знает, может вы просто упустили данного автора из своего поля зрения или слышали о нём только с чужих слов, а вот сейчас есть прекрасная возможность это исправить.
С 1830 года, то есть с началом зрелого этапа в творчестве, центральными мотивами творчества По стали Любовь и Смерть. Вместе они соединились в сюжет, который автор считал самым поэтическим в мире, - смерть прекрасной женщины. А свою главную цель По видел в достижении эффекта, смысл которого сводился к эмоционально-психологическому воздействию на читателя, вызову у него душевного волнения, трепета. Именно поэтому в центре его работ с завидным постоянством фигурируют Любовь и Смерть, два события, которые, по единодушному мнению романтиков, обладали мощным эмоциональным зарядом. Фундаментом всей романтической теории По является «Высшая Красота» — понятие объективно существующее, но полностью не познаваемое. При этом сам автор является проводником в мир прекрасного, а его творчество — связующим звеном, благодаря которому читатель имеет возможность соприкоснуться с этим миром. Истоки красоты По находит в трёх основных сферах действительности: природе, искусстве и мире человеческих чувств, среди которых особое место занимают любовь и горе утраты возлюбленной. Строгий порядок, соразмерность и гармония — это столпы прекрасного у По. Любую диспропорцию, отсутствие чувства меры, в том числе пафос и нравоучительность, По решительно и категорически отвергал. Образы в творчестве По неопределённы и расплывчаты, их конечная цель — в стимулировании воображения читателя с помощью эмоционального подтекста. Его образы не вызывали в памяти картинки действительности, но будили ассоциации неясные, отдалённые, зловещие или меланхолические, величественные и печальные. Это идеально вписывается в столь любимую По концепцию «Жизни внутри Сна». Сна, что плавно перетекает в смерть. Яркая и глубокая образность всего творчества По является следствием его установки на неопределённость. При этом система его образов имеет две особенности, которые стоит принимать во внимание: во-первых, метафоры у него собраны вокруг группы символов, которые для читателя являются ориентирами в общем полотне произведения; во-вторых, сами метафоры внутреннее тяготеют к символизму и зачастую работают как символы, делая творение автора многосложным, многослойным и многоуровневым. Для так называемых психологических или «страшных» рассказов По, которые и послужили основой для данного сборника, характерен сюжет, изображающий мрачные события и катастрофу, трагические изменения человеческого сознания, охваченного страхом и теряющего контроль над собой. Для них типична зловещая, угнетающая обстановка, общая атмосфера безнадёжности и отчаяния. Мистичность этих рассказов обусловлена стремлением автора разгадать метаморфозы человеческой психики и познать её тайные свойства и патологии, обнажавшиеся в «аномальных» условиях. Из всех психологических состояний человека особый интерес у По вызывало чувство страха: страх перед смертью («Маска Красной Смерти»), жизнью(«Преждевременное Погребение»), одиночеством, безумием («Что случилось с господином Вальдемаром?»), людьми, будущим. Вершиной психологической новеллистики По является «Падение дома Ашеров» - рассказ, изображающий уже не страх перед жизнью или смертью, а страх перед страхом жизни и смерти, вызывающий душевное оцепенение и провоцирующий разрушение личности. Истоки интересов По к подобным мотивам и тематике можно найти не только в системе взглядов этого художественного направления, но и в его собственном мироощущении, которое в зрелом возрасте формировалось в атмосфере угасания, бесперспективности и бесцельности. Одной из психологических загадок, особенно интересовавших Эдгара По, было врождённое тяготение человека к нарушению запрета, феномен, который он назвал «бесом противоречия» (imp of perverse). Наиболее яркое художественное воплощение он нашёл в рассказах «Чёрный кот» и «Сердце-обличитель». В этих, как и в некоторых других произведениях, внутреннюю мотивацию героев, совершающих запретные поступки - от безобидных невинностей до убийства - невозможно объяснить рационально. Это гибельное стремление к самоистреблению, балансирование на краю пропасти По приписывает свойству человеческой натуры как таковой, но при этом считает его аномалией, отклонением от психической нормы. Желая систематизировать и оформить свои идеи, в 1845 году он написал рассказ «Бес противоречия», в преамбуле к которому описал свойства данного феномена: «Это — mobile (с фр. - «побудительная причина») без мотива, мотив не motivirt (искаженное немецкое «мотивированный»). По его подсказу мы действуем без какой-либо постижимой цели… Мы поступаем так-то именно потому, что так поступать не должны. Теоретически никакое основание не может быть более неосновательным; но фактически нет основания сильнее. С некоторыми умами и при некоторых условиях оно становится абсолютно неодолимым. Я столь же уверен в том, что дышу, сколь и в том, что сознание вреда или ошибочности данного действия часто оказывается единственной непобедимой силой, которая — и ничто иное — вынуждает нас это действие совершить. И эта ошеломляющая тенденция поступать себе во вред ради вреда не поддаётся анализу или отысканию в ней скрытых элементов». Вообще можно говорить о том, что По сделал своим Главным Героем - Человеческое Подсознание, и те таинственные метаморфозы, что с ним происходят. Задолго до юнгианских архетипов с их коллективным бессознательным, По выстраивает свою собственную концептуальную систему, где превалирующую роль чаще всего играет тот самый «архетип Тени». И если у Юнга Тень можно подчинить, обуздать и ассимилировать, сделать своим внутренним другом и союзником, то у По она всегомогуща и бесчеловечна по своей природе, а личность практически любого человека легко крошится и ломается под её деспотическим влиянием. Человек буквально растворяется в своей Тени. Одним из важнейших мест в художественной структуре психологических новелл По занимают категории пространства и времени. В таких рассказах, как «Падение дома Ашеров», «Береника», «Лигейя», «Морелла», «Колодец и маятник», пространство замкнуто и ограничено, человек в нём отрезан от мира, и как следствие он сам и его сознание становятся объектом и субъектом пристального анализа. В других новеллах, таких как «Сердце-обличитель», «Чёрный кот»,«Овальный Портрет», замкнутость пространства, то есть физическая, сменяется психологической. Сознание героя всё так же оторвано от мира и сконцентрировано на самом себе, само его существование ощущается как пролог к катастрофе, гибели. Категория времени в психологических рассказах По зачастую не имеет привязки к конкретному хронологическому или историческому моменту. Изображается момент существования, осознаваемого в канун катастрофы или гибели, который одновременно и компактен, и безграничен. В него вмещается не только агония погибающего сознания героя, но и вся его история: поток пережитых эмоций и воспоминаний. Все эти сюжеты и мотивы в дальнейшем неоднократно будут обыграны и переосмыслены в литературе и кино (особенно, конечно, в нуаре, нео-нуаре, сюрреалистическом и психологическом нуаре. У данного жанра много ответвлений и подразделов, но По умудрился предопределить направления ключевых из них. Как минимум, контекстуально. А уж такие режиссеры как Хичкок, Бунюэль, Мельвиль, Линч и Кубрик - это его сыновья от мира кино), многие из них успеют обрести второе, а то и третье дыхание, но всегда стоит помнить о том, кто заложил основы. Как метко отметил однажды Стивен Кинг: «По был не просто писатель в жанре детектива или мистики. Он был Первым». Эдгар Аллан По - это Номер 1. А теперь можно и к самому чтению приступать, я думаю ;)
Пікір пайдалы ма? Иә (3)

Что наша жизнь? Игра! «Пиковая Дама» великого и бессмертного Александра Сергеевича Пушкина щедро наделённая мистическими элементами и послужившая источником сюжета для одноимённой оперы П. И. Чайковского (а также, видимо, для «детской» игры, когда собравшись в полностью тёмной комнате весёлая компания пытается призвать через зеркало Пиковую Даму… «Пиковая дама отзовись» сказанное три раза и… хммм… возможно, эта компания уже не будет столь весёлой 😏) - это, на мой скромный и чисто субъективный взгляд, Абсолютно Лучшее и самое характернейшее для Пушкина произведение в прозе. И моё любимейшее. Без вариантов и альтернатив. Изложить его вкратце невозможно: это шедевр сжатости. Всего-то жалких 60 страниц, но зато КАКИХ! В них заложен такой массив, что другому автору не хватит и 600. Как и «Повести Белкина», это произведение чистого искусства, гениально в своей целостности. По силе воображения данная повесть превосходит всё, что написал Пушкин в прозе (опять-таки, пусть это прозвучит слишком уж субъективно, но как есть): по напряженности она похожа на сжатую пружину. Читается на одном дыхании, чтобы перевести дух попросту нет времени. По неистовому своему романтизму она близка к «Гимну Чуме» и к стихотворению «Не дай мне Бог сойти с ума». Но фантастический и романтический сюжет влит в безукоризненную классическую форму, такую экономную и сжатую в своей благородной наготе, что даже Проспер Мериме, самый изощренно-экономный из французских писателей, не решился перевести её точно и приделал к своему французскому переводу всякие украшения и пояснения, думая, вероятно, что наращивает мясо на сухом скелете. Однако… он сильно заблуждался. Повесть безукоризненна и идеальна в своей одновременно литературной краткости и контекстуальной всеобъемлемости. Неутолимая жажда денег и наживы уродующие человека, стремление к личному обогащению за чужой счёт и тяга к власти – одни из центральных лейтмотивов маленького шедевра Александра Сергеевича. Подобная тематика служила ответом на самые животрепещущие процессы эпохи - власть золота над людьми и того, насколько чудовищные обличия она принимает порой. В "Пиковой даме" Пушкин обратился к широкому кругу проблем: человек, свобода нравственного выбора, судьба, предопределение, случайность и закономерность, игра, азарт и зависимость от него (этот «кокаин» не вывести из своей крови никакими средствами - он часть тебя, и это куда опаснее любого наркотика), «злодейство» - лишь некоторые из философских вопросов, осмысляемых автором в этой повести. Название позволяет нам сравнить повесть с карточной игрой, где карты - персонажи произведения, а игроки - те силы, что способны распоряжаться картами (персонажами) по своей воле.
Пиковая дама становится не только картой в игре Германна с Судьбой, но и местью Судьбы за пренебрежение Человеком своим Словом и Принципом. Карточный долг - долг Чести. Дело Принципа - это не блажь, а основа Жизненного Пути. Так всегда было и всегда будет. И не позавидуешь тому, кто в запальчивости своей гордыни забывает об этом. Главный герой сам оказывается картой в более крупной игре, и его карта была бита. Он уже отыгран в этой партии. Но не стоит забывать и про Её Величество - Карму. Какой всё-таки стороной упадёт монетка? Какие карты лягут в твои руки? Случайность? Нет, закономерность. Всё уже решено задолго до того, как ты сел за игральный стол. Германн проигрывает и теряет всё, а игра спокойно продолжается дальше, как и сама жизнь… По своим правилам и законам… За игральным столом всегда найдётся место для новоприбывшего, который заменит собой выбывшего. Данное же издание в виде сборника с четырьмя мини-пьесами озаглавленными «Маленькими Трагедиями», которые идут в дополнении к повести - это работа на все 10/10. Замечательные иллюстрации внутри книги, плотная, белая бумага, отличный и пропечатанный шрифт, красивый кавер с золотым тиснением, всё на самом высоком уровне. Поклонникам классики или просто высоко-качественных мистических рассказов - настоятельно рекомендуется.
Пиковая дама становится не только картой в игре Германна с Судьбой, но и местью Судьбы за пренебрежение Человеком своим Словом и Принципом. Карточный долг - долг Чести. Дело Принципа - это не блажь, а основа Жизненного Пути. Так всегда было и всегда будет. И не позавидуешь тому, кто в запальчивости своей гордыни забывает об этом. Главный герой сам оказывается картой в более крупной игре, и его карта была бита. Он уже отыгран в этой партии. Но не стоит забывать и про Её Величество - Карму. Какой всё-таки стороной упадёт монетка? Какие карты лягут в твои руки? Случайность? Нет, закономерность. Всё уже решено задолго до того, как ты сел за игральный стол. Германн проигрывает и теряет всё, а игра спокойно продолжается дальше, как и сама жизнь… По своим правилам и законам… За игральным столом всегда найдётся место для новоприбывшего, который заменит собой выбывшего. Данное же издание в виде сборника с четырьмя мини-пьесами озаглавленными «Маленькими Трагедиями», которые идут в дополнении к повести - это работа на все 10/10. Замечательные иллюстрации внутри книги, плотная, белая бумага, отличный и пропечатанный шрифт, красивый кавер с золотым тиснением, всё на самом высоком уровне. Поклонникам классики или просто высоко-качественных мистических рассказов - настоятельно рекомендуется.
Отсутствуют, в принципе.
«Пиковая дама» является одним из самых известных произведений Пушкина наряду с романами «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Дубровский». Опубликованое в 1834 году - оно до сих пор будоражит умы и не теряет своей злободневности. В основе сюжетной фабулы лежит реальная история, которую Пушкин услышал от своего приятеля - молодого князя С. Г. Голицына, который, проигравшись, вернул себе проигранное, поставив деньги по совету своей бабушки на три карты. Прототипом старухи-графини стала та самая бабушка С. Г. Голицына, княгиня Наталья Петровна Голицына, мать московского генерал-губернатора. Она действительно жила в Париже и была знакома с известным аферистом - графом Сен-Жерменом. От него она и узнала карточный секрет. «Пиковая дама» открывает собой вереницу произведений русских классиков на тему «преступления и наказания»: беспринципный молодой человек — русский Растиньяк — ради материального преуспевания скатывающийся всё ниже и ниже «по наклонной» (корысть стоящая за соблазнением Лизы и запугиванием старухи, полное пренебрежение другими людьми, пожирающая изнутри алчность и не способность быть верным своему слову), однако вместо чаемого успеха, но по роковому стечению событий теряет не только материальное благополучие, но и здравый ум (что особенно пугало Пушкина: «Не дай мне Бог сойти с ума» именно об этом). Когда графиня раскрывает Германну тайну, она ставит героя перед выбором: он должен жениться на Лизе, он должен ставить одну из трёх карт раз в день, после выигрыша он должен никогда больше не играть в карты, преодолеть свою страсть, переступить через клокочущий в нём азарт. Германн же делает выбор в свою пользу: он не собирается выполнять условия графини, он думает лишь о том, как ему распорядиться выигрышем. И расплата приходит очень быстро. Судьба неоднократно испытывает его, посылая ему «случайные» не-случайности. И наш окрылённый успехом ГГ их все успешно пропускает мимо себя. Последняя же «случайность» (пиковая дама вместо туза) становится закономерностью, так как это наказание за нарушение своего Слова и взятых на себя обязательств. Сумасшествие теперь его единственный куш. Это ещё далеко не Раскольников, конечно, с его одержимостью абсурдными сверх-идеями и делением людей на «высший сорт», который «право имеет», и всех остальных, но, без сомнения, Германн - это его предтеча, причём самая первая во всей классической русской литературе. В сюжете повести неоднократно и по-разному обыгрывается излюбленная Александром Сергеевичем (как и другими яркими представителями романтизма 19-го века) тема непредсказуемой судьбы, фортуны, рока. Можно сколько угодно пытаться смухлевать с предначертанным тебе, но это бесполезное занятие в степени бесконечности. Ибо, как говорят, человек предполагает, а Небеса… Небеса предопределяют. Помимо неотвратимости и фатализма в «Пиковой Даме» затрагивается тема соприкосновения человека с тёмными силами, которые ему неведомы, неподвластны и непостижимы. И о том к каким разрушительным последствиям это приводит личность с уже запятнанной душой. Эти силы невидимы, они неосязаемы, они таятся в ночи, крадутся с порывами ветра в ветвях деревьев, падают тенью на отражение в зеркале, долго питаются нашими страхами, сомнениями, пороками, страстями, а затем уводят человека за собой в гибельный танец при свете луны. Этих сил никогда не найти в реальном мире, сколько не ищи, но они существуют. Они выжидают, они высматривают. И они сами придут за тобой, когда ты перейдешь невидимую грань их сумеречного мира. А перейти эту черту крайне легко. Достаточно просто оставить за бортом совесть, порядочность и принципиальность. И вот ты уже ступаешь во мглу из которой нет возврата. Честное слово, после прочтения порой так и хочется перетасовать вновь свою старую колоду, погрузиться в кромешную темноту ночи, слиться с ней, а затем включить фоном какой-нибудь дарк эмбиент или чарующий дарк джаз в исполнении Анджело Бадаламенти из его ночных этюдов к «Twin Peaks: Fire Walk With Me» и «Mulholland Drive». Настроение этой повести буквально один в один вписывается в подобное музыкальное сопровождение, становясь единым целым и затягивая мысли читателя ещё глубже в свои перипетии. Без дураков, но есть в этом всём нечто по-настоящему магическое. К тебе приходит полное понимание того, что ещё до разговора с графиней Германн сам шел навстречу чёрной силе Пиковой Масти. Когда же графиня умерла, он подумал, что замысел его рушится, что все кончено и жизнь отныне пойдет по-старому, с тем же капитальцем и нетронутыми процентами. Но тут роли переместились: из нападающего он превратился в объект нападения. Мертвая старуха явилась к нему. «Я пришла к тебе против своей воли, — сказала она твердым голосом, — но мне велено исполнить твою просьбу» и т. д. Однако те, по чьей воле она пришла исполнить волю Германна, жестоко посмеялись над ним: не то назвали ему две верных карты и одну, последнюю, самую важную — неверную, не то в последний, решительный миг подтолкнули его руку и заставили проиграть ВСЁ. Как бы то ни было, эти неподвластные человеку силы возвели Германна почти на предельную высоту — и только лишь для того, чтобы столкнуть его вниз. В конце концов — судьба Германна оказалась крайне незавидной: он сходит с ума. Весь его мир теперь укладывается только в три карты, которые он непрестанно повторяет и повторяет, словно заклятие: «Тройка, семёрка, туз! Тройка, семёрка, дама!..». Пиковая Дама полностью кроет трефового валета в этом безрадостном, но справедливом и закономерном раскладе, ибо чёрная, пиковая масть - это не просто 1/4 карточной колоды. О, нет. Это мимолётность жизни и вечность смерти, предопределенность и фатум. И от неё никуда и никогда не уйти, коли уж она взяла тебя в свой оборот. Как пелось в прекрасной песне Leonard Cohen - By the Rivers Dark: «Be the truth unsaid. And the blessing gone. If I forget. My Babylon. I did not know. And I could not see. Who was waiting there. Who was hunting me. By the rivers dark. Where it all goes on. By the rivers dark. In Babylon». Только Пиковый Туз в своём фатальном воздействии превосходит Пиковую Даму, закрывая собой любую карту в колоде, подобно надгробной плите, но… об этом подробно я расписывать тут не стану. Это иная история и для другого раза…♠️♠️♠️
P.S. Цикл же коротких драматических пьес для чтения озаглавленный «Маленькие Трагедии» служит изящным и тонким дополнением к основному произведению сборника. Цикл состоит из четырёх пьес: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы». Отбор тем для «драматических изучений» в «Маленьких Трагедиях» говорит о том, что Пушкина интересовало уже не столько романтическое живописание страсти, возведённой в абсолют, сколько её анализ, постановка своего рода литературного эксперимента. Тут вновь следует подчеркнуть свойственную произведениям Александра Сергеевича уникальную целостность и неделимость. Композиционную, жанровую и идейно-философскую. Построение Пушкиным драматургического цикла, где представленные человеческие страсти выстраиваются от порицаемых и менее ценных, и далее к более ценным: страсть к деньгам в «Скупом рыцаре» — наслаждение искусством в «Моцарте и Сальери» — наслаждение любовью в «Каменном госте» — наслаждение самой жизнью в «Пире во время чумы». Как писала Анна Ахматова: «Быть может, ни в одном из созданий мировой поэзии грозные вопросы морали не поставлены так резко, как в «Маленьких трагедиях» Пушкина». Иными словами, трагедия Германна из «Пиковой Дамы» будет дополнена ещё четырьмя, но рассматриваться они уже будут под другим углом, создавая при этом картину невероятной комплексности всего сборника.
P.S. Цикл же коротких драматических пьес для чтения озаглавленный «Маленькие Трагедии» служит изящным и тонким дополнением к основному произведению сборника. Цикл состоит из четырёх пьес: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы». Отбор тем для «драматических изучений» в «Маленьких Трагедиях» говорит о том, что Пушкина интересовало уже не столько романтическое живописание страсти, возведённой в абсолют, сколько её анализ, постановка своего рода литературного эксперимента. Тут вновь следует подчеркнуть свойственную произведениям Александра Сергеевича уникальную целостность и неделимость. Композиционную, жанровую и идейно-философскую. Построение Пушкиным драматургического цикла, где представленные человеческие страсти выстраиваются от порицаемых и менее ценных, и далее к более ценным: страсть к деньгам в «Скупом рыцаре» — наслаждение искусством в «Моцарте и Сальери» — наслаждение любовью в «Каменном госте» — наслаждение самой жизнью в «Пире во время чумы». Как писала Анна Ахматова: «Быть может, ни в одном из созданий мировой поэзии грозные вопросы морали не поставлены так резко, как в «Маленьких трагедиях» Пушкина». Иными словами, трагедия Германна из «Пиковой Дамы» будет дополнена ещё четырьмя, но рассматриваться они уже будут под другим углом, создавая при этом картину невероятной комплексности всего сборника.

Вряд ли кто–нибудь сможет припомнить плохую работу в исполнении Виктора Гюго. «Собор Парижиской Богоматери» - это, без сомнения, известнейшее произведение французского романтизма и, как это ни странно (всё-таки к моменту выхода книги на дворе уже был 1831 год), первый исторический роман на французском языке. Безусловный и бессмертный шедевр мирового литературного наследия. Полный искусных, подробнейших, но не утомляющих, очерков города, людей и окружающей их действительности. Изобилующий огромным количеством отсылок на всевозможные исторические события и детально описывающий реалии тех далёких дней. Всё это делает роман источником уникальной информации о жизни старого Парижа. А уж чего стоит великолепное и скрупулезное описание архитектуры города и его предместий... Эта книга – Музыка, положенная автором на бумагу, когда он описывает Париж XV века, любовь к этому городу и восхищение им сквозит в каждом слове. И конечно же – сюжет. Вечный и известный практически каждому, кто хоть краем уха слышал про «что-то там о несчастной любви горбуна-звонаря к красавице-цыганке, мюзикле, диснеевском мульте и всё такое прочее». Гюго сумел задрать планку драматического жанра невообразимо, недостижимо высоко. Печалью, трагизмом и слезами героев пропитана каждая страница его великого произведения. И, самое главное, ты это в это веришь, ты это воспринимаешь, это находит отклик в твоей душе и сердце. «Собор Парижиской Богоматери» - это совершенное произведение на тему неразделенной любви и на тему любви, как таковой. В принципе. Со всеми её оттенками, которые бывают и весьма мрачных тонов. Очень мрачных. Никакой «вылизанности» персонажей и «сказочной» природы их чувств - тут лучше не ждать. Этого не будет. Автор скальпелем будет резать по живому без всякого наркоза. Но с поистине хирургической точностью. Гюго, как главный теоретик романтизма, идеально продемонстрировал то, как сильно мы можем ошибаться в людях, покупаясь на их «обертку» и забывая о том, что творится в душе каждого из нас. Вот так неказистый, глухой, почти слепой Квазимодо видел и слышал больше и лучше, чем те, кто даже не замечал маленького уродливого горбуна в силу своей гордыни, эгоизма и высокомерия. Автор мастерски раскрывает человеческую суть всех своих героев. Она (увы) типична для большинства людей. И ты понимаешь, что к трагедии всегда приводит простая глупость (в первую очередь, феерическая глупость вкупе с детской наивностью Эсмеральды, конечно же. Вся её линия с откровенным дегенератом Фебом, который, по своей сути, вообщем-то обыкновенное животное, ну, только что в рыцарских доспехах, это сплошное прикрытие лица ладонью. Так и хочется ей сказать: «Да ты окстись уже, милая девочка. Встряхнись и приди в себя. Чего тебе тут не ясно?». Но с другой стороны, а какое понимание может быть у шестнадцатилетней девушки из 15 века, похищенной и выращенной цыганским табором и которая просто мечтает вновь обрести свою настоящую семью? Ну, вот и весь ответ. Эсмеральда никакая не femme fatale, как её часто хотят показать те, кто пытался переосмыслить роман. Нет. Это не прекрасная и сногсшибательная Джина Лоллобрижида из экранизации 1956 года. Настоящая Эсмеральда такая же жертва, как и многие другие герои этой книги. Жертва наивных детских фантазий и полного непонимания того, что из себя представляет реальный мир и люди населяющие его), которая строиться по цепочке и тянет за собой судьбу каждого героя книги. Так называемый, character development на очень высоком, можно сказать, что топовом уровне, но поскольку это Гюго, то удивляться абсолютно нечему. Он непревзойденный мастер прописывать персонажей и их мотивацию. А сколько живых и настоящих чувств и эмоций проходит через книгу электрическим током: тщеславие, жадность, настоящая любовь, всепоглощающая страсть и испепеляющая ненависть… Любое произведение Гюго цепляет за душу и тащит читателя за собой по американским горкам до самого конца, и «Собор» тут может уступить разве что только «Отверженным» (с «Человеком, который смеется» они идут вровень). Да и то совсем немного. Отдельно хочется отметить совершенно потрясающий слог автора, насыщенный, яркий, живописный, захватывающий, изящный и одновременно эмоциональный, да и просто невероятно красивый. Если можно творить словом подобно кисти художника - это именно про Гюго. Свой великий шедевр он нарисовал словами. И ещё отдельно поражает какая-то безмерно титаническая работа переводчицы. Настолько выверенного, дотошного и точного перевода, который улавливает и передает все тончайшие нюансы оригинала, я уже очень давно не встречал. Моё почтение, как говорится.
Вероятно, что многим книга может показаться затянутой и сильно перегруженной описанием парижской архитектуры и политических реалий 15-го века. Чтож… это будет вполне обоснованная претензия, но нужно понимать, что для Гюго сохранение архитектурного наследия Франции, которое к 19 веку было под серьёзной угрозой, было невероятно животрепещущей темой. Да, он многовато уделил внимания этой теме, но «Собор Парижской Богоматери» - это не просто название книги и не просто основная локация произведения. Собор и Париж - это полноценные действующие лица истории, и они подобно героям из плоти и крови также проходят через очень многое на этих шестистах страницах. Данное произведение невероятно комплексное, пусть тема Любви и всех из неё вытекающих тут центральная, но темы изменений в обществе и культуре тут проходят красной нитью через всю книгу. И при ознакомлении с романом это ни в коем случае не стоит упускать из виду.
«Собор Парижской Богоматери» - это уникальный сплав из исторических описаний нравов и обычаев парижан эпохи Людовика XI, философских рассуждений на тему гибели архитектуры, как искусства, в связи с появлением и развитием книгопечатания, о роли Рока и Судьбы в жизни человека, о извечном противостоянии внутренней красоты и внешнего уродства, и наоборот (у нас по-прежнему одна монета и у неё по-прежнему две стороны. Ну, так что? Подбросим на удачу? Орёл или Решка?), жизнеописаний трагических судеб главных героев, да и много другого. И все это, на мой вгляд, очень интересно, но я хочу обратить внимание потенциального читателя не только на это. В первую очередь, произведение о такой своеобразно-специфической штуке, которая зовётся «Любовь» (ну да, тот самый химический реагент в нашем организме, который способен сдетонировать при самых необычных, а порой и просто странных обстоятельствах в нашей жизни. И вот куда приведут последствия этой детонации… а вот чёрт его разберешь, если честно. В 36 китайских стратагемах куда легче разобраться, скажу я вам. Личные взаимоотношения между людьми - это такой тёмный лес, где плутать можно очень и очень долго, а когда выберешься, то запросто можешь оказаться на пепелище полного эмоционального выгорания. Хотя порой бывает и такое (справедливости ради отмечу), что у вас даже пульс бьётся в едином ритме и темпе, коснись вы запястьями друг друга, а взаимопонимание на таком уровне, когда проговаривать всё вслух совершенно без надобности. Достаточно сказать А, чтобы за тебя договорили Б, ибо у вас полная синхронизация чувств, мыслей и эмоций… однако… это не столь частое явление. Вот вообще не столь). Не о конкретной любовной истории, а о «Любви» в самом широком понимании данного слова, о ее различных формах и их возможных трагических последствиях. Роман Гюго стал и гимном любви, и противопоставлением её ипостасей. Это чувство может быть мимолетным, может быть глубоким, может быть искренним или властным. Каждый человек любит в силу своего характера и образа жизни. Но порой за этим красивым и столь возвышенным словом (Любовь же таки, а не абы что!!!) скрывается нечто чёрное, тёмное, отталкивающее и ничего общего с самим словом не имеющее. Разрушительная иллюзия любви скрывающая за собой глупость и недальновидность, животную похоть и сластолюбие, жажду владеть и повелевать. У любви, как и у всего в нашем мире, тоже есть своя тёмная сторона. И вот этим скрытым в тени аспектам данного чувства в романе уделяется очень много времени. Удивительная школа жизни по Гюго - все разложено по полочкам. Вот любовь (хотя скорее влюбленность) Эсмеральды - сильное, вызванное молодостью, неопытностью и абсолютно антуражными вещами (военной формой, романтическими обстоятельствами знакомства) чувство. Та самая первая «любовь» с её буйством гормонов и полным отсутствием логического мышления. Трагические последствия тут закономерны. Вот запретная любовь-страсть священника Клода Фролло - чувство, уничтожающее его изнутри, не созидательное, но разрушительное для него и окружающих. Сжигающая и испепеляющая Страсть в самом прямом смысле. От любви там мало потом что остаётся, если даже и было когда-то. Фролло ведом, по большей части, чувством собственничества и желанием безраздельно владеть юной танцовщицей, которое быстро перерастает в болезненную одержимость. Вот любовь-поклонение Квазимодо - сначала, к Клоду Фролло, а затем и к Эсмеральде. Это любовь - самоотречение, а иногда и самобичевание, любовь, когда жизнь без объекта этой любви утрачивает смысл. И да, Квазимодо был ЕДИНСТВЕННЫМ кто по-настоящему и искренне любил Эсмеральду всем своим сердцем. Без всяких «но» и подводных камней. Здесь именно он является олицетворением того кристально-чистого чувства про которое спето так много песен, написано так много книг и снято так много фильмов (но в большинстве из которых всё построено по избитому шаблону, а любовь остаётся не более, чем красивым словцом, ну, ещё и очень высокопарным, без реальной смысловой нагрузки). Вот любовь капитана Феба де Шатопера - любовь-самолюбование, любовь-эгоизм - иными словами, капитан любит и видит в этой жизни только себя и свои удовольствия, на других, их чувства и судьбы ему, и подобным ему «людям», просто наплевать. Совершенно пустой, одномерный и недалёкий персонаж. И вот таких особей немало (слово «немало» - это сильное преуменьшение с моей стороны, к слову) и по сей день. Давайте уж не будем обманываться, как Эсмеральда, и просто признаем очевидное. Вот он, по моему мнению, главный отрицательный персонаж книги - приглядитесь к нему получше - он виновник этой трагедии, и люди, подобные ему, виновники намного большего числа бед, нежели люди, подобные Клоду Фролло, которого принято считать самым заправским и записным злодеем в этой истории.
Любовь к власти Людовика XI - тоже разрушительное чувство, сыгравшее немаловажную роль в судьбе героев. Ни для кого не секрет, что властолюбие, особенно в своей запущенной форме, может быть губительнее любого стихийного бедствия. И не будь хотя бы одной этой любви - и все пошло бы совсем по-другому... Но это, как принято говорить, была бы совсем уже другая история... Про ту же «любовь», что всегда в розовых цветах, а влюбленные держась за руки уходят в закат под щебетание пташек (само собой, что героически преодолев все преграды на своем пути), написано и без того в избытке. P.S. И всё-таки ещё раз упомяну экранизацию «Собора Парижской Богоматери» 1956 года с ослепительной Джиной Лоллобрижидой в главной роли. Если вам интересен несколько более альтернативный взгляд на характер Эсмеральды, где она не столь глуповато-наивная девушка, как в оригинале, а куда более волевая и независимая личность (ну и, честно говоря, куда как интереснее и живее своего литературного прототипа, хотя это дело вкуса, конечно), то стоит ознакомиться с данным фильмом. А уж её зажигательный танец (можно его посмотреть и на ютабчике под идеально наложенную композицию Криса Нормана “Gypsy Queen”), как мне кажется, способен растопить даже самое заледенелое и черствое мужское сердце. Джина Ван Лав ♥️ ♠️ ♥️
Любовь к власти Людовика XI - тоже разрушительное чувство, сыгравшее немаловажную роль в судьбе героев. Ни для кого не секрет, что властолюбие, особенно в своей запущенной форме, может быть губительнее любого стихийного бедствия. И не будь хотя бы одной этой любви - и все пошло бы совсем по-другому... Но это, как принято говорить, была бы совсем уже другая история... Про ту же «любовь», что всегда в розовых цветах, а влюбленные держась за руки уходят в закат под щебетание пташек (само собой, что героически преодолев все преграды на своем пути), написано и без того в избытке. P.S. И всё-таки ещё раз упомяну экранизацию «Собора Парижской Богоматери» 1956 года с ослепительной Джиной Лоллобрижидой в главной роли. Если вам интересен несколько более альтернативный взгляд на характер Эсмеральды, где она не столь глуповато-наивная девушка, как в оригинале, а куда более волевая и независимая личность (ну и, честно говоря, куда как интереснее и живее своего литературного прототипа, хотя это дело вкуса, конечно), то стоит ознакомиться с данным фильмом. А уж её зажигательный танец (можно его посмотреть и на ютабчике под идеально наложенную композицию Криса Нормана “Gypsy Queen”), как мне кажется, способен растопить даже самое заледенелое и черствое мужское сердце. Джина Ван Лав ♥️ ♠️ ♥️
Пікір пайдалы ма? Иә (23)

«Портрет Дориана Грея» от главного бунтаря, модника и провокатора поздней викторианской эпохи, который являлся одной из ключевых фигур эстетизма и европейского модернизма, а также определенно был гениальным драматургом - Оскара Уайльда - это единственный полноценный роман написанный им и главное же произведение в его жизни. Неугасающая слава, популярность и влияние романа столь велики и по сегодняшний день, что большинству профессиональных писателей, за плечами которых не один десяток книг, о таком не стоит даже и мечтать. Хотя главная идея романа о том, что ничего не проходит бесследно, и всякое наше действие влечёт за собой результат, который отражается, прежде всего, на нас самих, - не нова и была переосмыслена десятки раз, но вот подача… Уникальность подачи и замысел с портретом делают эту книгу настоящим шедевром мировой литературы. Здесь очень подробно и детально прописана атмосфера аристократичности и беззаботности "высшего света" Лондона. Обилие философских дискуссий и умозаключений позволяет глубоко прочувствовать мировоззрение персонажей, обуревающие их страсти, тайные слабости и многочисленные пороки. И хотя порой описание происходящего выглядит излишне вычурно, но это Уайльд. Без этой вычурности он не был бы собой. Эта книга является представителем того рода произведений, которые заставляют всерьёз задуматься над многими вещами и аспектами нашей жизни. Даже при условии временного несовпадения, в книге можно обнаружить конфликты, которые актуальны и в наше время. Более того, многое из того, что стало лейтмотивом книги, сейчас - в 21-м веке - ещё более злободневно, чем в 19-м. В плане же слога эта книга – эталон того, как надо писать. Плотность метафор, ярких и подробных описаний, незабываемых диалогов превышает все допустимые пределы. Чуть ли не каждая фраза является готовым афоризмом. Символизм происходящего на страницах книги вне всяких рамок. Он переполняет собой всё. А подтексты и подсмыслы заложенные Уайльдом не поддаются счёту. Каждый прочитавший «Портрет ДГ» может позволить себе трактовать его в силу собственных взглядов и личных морально-нравственных принципов. Большой хитрец Уайльд именно к этому и подталкивает своего читателя. А уж к каким выводам вы придёте - это будет известно только вам. Ну, а данное прекрасно выполненное переиздание порадует не только ваши эстетические чувства, но и даже вашу книжную полку)
Если не считать несколько затянутого начала романа, то недостатков не обнаружено. Само собой, что кому-то книга покажется скучноватой из-за, на первый взгляд, перегруженности текста философскими воззрениями персонажей и бесчисленных афоризмов, но это обманчивое первое впечатление. Не более того. Уайльд умышленно написал текст именно таким, изложив собственную концепцию восприятия красивого и настоящего (и это не одно и то же) через иллюзорность того, что мы видим, или даже чувствуем, и того, что есть на самом деле. Не стоит попадаться в эту столь искусно расставленную обманку провокационного ирландского гения ;)
«Портрет Дориана Грея» предстал на суд читателя в 1890 году и его сногсшибательный успех окончательно укрепил Оскара Уайльда как икону своего времени. И этот единственный роман Уайльда, по сути, обессмертил его (если брать в контексте книги - это звучит ещё более иронично и одновременно фаталистически, чем кажется на первый взгляд, особенно с учетом дальнейшей судьбы автора). После публикации романа в обществе разразился скандал, а критики обвинили его в безнравственности. Литературный истеблишмент осудил «Портрет Дориана Грея» как полностью аморальное произведение, а некоторые особо рьяные товарищи и вовсе требовали подвергнуть его запрету, а самого Уайльда — судебному наказанию. Уайльда буквально завалили обвинениями в оскорблении общественной морали. Однако обычными читателями, что показательно, роман был принят восторженно. Скандальная слава этой книги и по сей день отдаётся эхом в литературных кругах. В ответ на 216 печатных откликов на «Портрет Дориана Грея» Уайльд написал более 10 открытых писем в редакции британских газет и журналов, объясняя, что искусство не зависит от морали. Более того, он писал, что те, кто не заметил морали в романе, полные лицемеры, поскольку мораль всего-то и состоит в том, что убивать совесть безнаказанно нельзя. К слову, в самом романе ни один из пороков главного героя чётко не назван, кроме убийства художника и злоупотребления опиумом. И это не просто так. Сам Уайльд говорил, что каждый видит в его герое свои собственные грехи и пороки:
«Каждый человек видит в Дориане Грее свои собственные грехи. В чём состоят грехи Дориана Грея, не знает никто. Тот, кто находит их, привнёс их сам». По факту, «Портрет Дориана Грея» - это лакмусовая бумажка для определения лицемеров и ханжей, которые прячутся от правды о самих себе за своим искусственно-показушным морализмом. Ну, а в 1891 году роман получает переиздание со значительными дополнениями, и Уайльд сопровождает свой шедевр особым предисловием, которое становится отныне манифестом эстетизму — тому направлению и той религии, которые он сам же и создал. Уже год спустя после своего появления на свет «Портрет ДГ» превращается в чистую классику, которой никогда не грозит увядание (что весьма символично, если снова обратиться к контексту произведения). Относительно жанра «Портрет Дориана Грея» — это conte philosophique, интеллектуально-аллегорическая повесть, столь популярная в эпоху Просвещения, однако написанная с позиций декадентства конца 19 века. Юноша, наделённый невероятной красотой, попадает под влияние идей нового гедонизма, проповедуемых лордом Генри, и посвящает свою жизнь жажде наслаждений и порока. В нём сочетаются тонкий эстет, даже романтик и порочный развратник, способный на преступление. Эти две противоположные стороны его характера находятся в постоянной борьбе друг с другом. Данная двойственность героя характерна для многих готических романов с их темой «двойничества» и антитезой, что живёт в собственном отражении. В Дориане Грее угадываются черты нового Фауста. Но только не того Фауста, что влекомый жаждой новых знаний и открытий продаёт свою душу дьяволу (да, при этом ещё желая вернуть себе прежнюю молодость из-за страсти к юной девушке, но для Фауста эта цель второстепенна, она служит только началом для гораздо большего. Аппетит-то приходит во время еды, как известно), а куда более поверхстного и, в какой-то степени, более примитивного. Дориан лишь желает сохранить навечно свою красоту и предаваться праздному, но совершенно бессмысленному, существованию, получая от жизни одни только наслаждения и бесконечные удовольствия. Дальше этого он не видит ничего. Его картина мира и мировосприятие крайне ограничены одними только дорогими брендами и внешним лоском, он не способен смотреть за грань, вникать в суть тех или иных вещей и думать об обратной стороне своего образа жизни. Его не влекут новые горизонты, покорение новых высот, расширение кругозора и постоянное самосовершенствование себя, как личности. Его амбиции заканчиваются на собственной внешности и самолюбовании. Инфантильность же такого мышления и отношения к жизни приводят его к закономерному итогу. Падение на самое дно, полное личностное разложение и тотальная деградация. Дориан Грей мог изменить всё. Но не стал. Он просто смотрел как день за днём гниёт его душа. Красивая же оболочка остаётся красивой, а большего ему и не нужно. Сам портрет в этой истории не более, чем метафора для наглядной демонстрации падшей души и самолично растоптанной совести. В роли Мефистофеля тут выступает лорд Генри, именно он на протяжении всего романа соблазняет Дориана Грея идеями нового гедонизма, превращая изначально невинного и талантливого юношу в порочное и глубоко аморальное чудовище. Он - «Принц Парадоксов». Парадоксальное и противоречивое мышление лорда Генри, изливающееся едкими афоризмами, проникнуто критикой на всё викторианское английское общество. Лорд Генри не просто «уайльдовский Мефистофель» - соблазнитель и искуситель - это жёсткая и бескомпромиссная сатира над всеми «невероятно напыщенными, но бесконечно пустыми» викторианскими устоями и нормами. Если Дориан Грей отражает тёмную сторону человека, как такового, со всеми его низменными прихотями, эгоистичными желаниями и тягой к нарциссизму, то Лорд Генри - это dunkler doppelgänger всего высшего английского общества конца 19 века. Под роль Гретхен (Маргариты) попадает Сибила Вэйн, новый Валентин — Джеймс Вэйн. Основным же источником вдохновения для Уайльда служил, как мне кажется, аллегорический роман Бальзака «Шагреневая кожа». Декадентский же дух произведения восходит к тогда невероятно модному роману Гюисманса «Наоборот» 1884 года. Вероятно, это и есть та книга, которую лорд Генри даёт Дориану. А к готическому роману «Мельмот Скиталец» относится идея о таинственном портрете, прототип которого не старится, и отчасти герой, который может позволить себе всё. Собственно говоря, автор «Мельмота» Чарльз Роберт Метьюрин приходился Уальду двоюродным дедушкой, поэтому само произведение было знакомо ему с детства. «Портрет Дориана Грея» очень целостное произведение, где каждая деталь прописана неспроста, а с определённым умыслом. Его тончайшая характеристика всей скрытой пошлости викторианского периода достойна только самых громких оваций, но самая изюминка состоит в том, что роман значительно опережает своё время. Опережает на полтора столетия, как минимум, ибо время, когда определяющими стали формализм и бездушие, когда внешнее и поверхностное полностью превалирует над внутренним и глубинным, когда важна только форма, а не содержание, стремление казаться, а не быть, потеря личностной индивидуальности в угоду трендов и модных течений, внутренний (да порой и внешний) примитивизм отношений между людьми и желание получать от жизни всё, но ничего не давать взамен - это не про вчерашний день. Ой, нет, вовсе не про вчерашний. Это про день сегодняшний (а может и завтрашний). И вот таков его портрет...
«Каждый человек видит в Дориане Грее свои собственные грехи. В чём состоят грехи Дориана Грея, не знает никто. Тот, кто находит их, привнёс их сам». По факту, «Портрет Дориана Грея» - это лакмусовая бумажка для определения лицемеров и ханжей, которые прячутся от правды о самих себе за своим искусственно-показушным морализмом. Ну, а в 1891 году роман получает переиздание со значительными дополнениями, и Уайльд сопровождает свой шедевр особым предисловием, которое становится отныне манифестом эстетизму — тому направлению и той религии, которые он сам же и создал. Уже год спустя после своего появления на свет «Портрет ДГ» превращается в чистую классику, которой никогда не грозит увядание (что весьма символично, если снова обратиться к контексту произведения). Относительно жанра «Портрет Дориана Грея» — это conte philosophique, интеллектуально-аллегорическая повесть, столь популярная в эпоху Просвещения, однако написанная с позиций декадентства конца 19 века. Юноша, наделённый невероятной красотой, попадает под влияние идей нового гедонизма, проповедуемых лордом Генри, и посвящает свою жизнь жажде наслаждений и порока. В нём сочетаются тонкий эстет, даже романтик и порочный развратник, способный на преступление. Эти две противоположные стороны его характера находятся в постоянной борьбе друг с другом. Данная двойственность героя характерна для многих готических романов с их темой «двойничества» и антитезой, что живёт в собственном отражении. В Дориане Грее угадываются черты нового Фауста. Но только не того Фауста, что влекомый жаждой новых знаний и открытий продаёт свою душу дьяволу (да, при этом ещё желая вернуть себе прежнюю молодость из-за страсти к юной девушке, но для Фауста эта цель второстепенна, она служит только началом для гораздо большего. Аппетит-то приходит во время еды, как известно), а куда более поверхстного и, в какой-то степени, более примитивного. Дориан лишь желает сохранить навечно свою красоту и предаваться праздному, но совершенно бессмысленному, существованию, получая от жизни одни только наслаждения и бесконечные удовольствия. Дальше этого он не видит ничего. Его картина мира и мировосприятие крайне ограничены одними только дорогими брендами и внешним лоском, он не способен смотреть за грань, вникать в суть тех или иных вещей и думать об обратной стороне своего образа жизни. Его не влекут новые горизонты, покорение новых высот, расширение кругозора и постоянное самосовершенствование себя, как личности. Его амбиции заканчиваются на собственной внешности и самолюбовании. Инфантильность же такого мышления и отношения к жизни приводят его к закономерному итогу. Падение на самое дно, полное личностное разложение и тотальная деградация. Дориан Грей мог изменить всё. Но не стал. Он просто смотрел как день за днём гниёт его душа. Красивая же оболочка остаётся красивой, а большего ему и не нужно. Сам портрет в этой истории не более, чем метафора для наглядной демонстрации падшей души и самолично растоптанной совести. В роли Мефистофеля тут выступает лорд Генри, именно он на протяжении всего романа соблазняет Дориана Грея идеями нового гедонизма, превращая изначально невинного и талантливого юношу в порочное и глубоко аморальное чудовище. Он - «Принц Парадоксов». Парадоксальное и противоречивое мышление лорда Генри, изливающееся едкими афоризмами, проникнуто критикой на всё викторианское английское общество. Лорд Генри не просто «уайльдовский Мефистофель» - соблазнитель и искуситель - это жёсткая и бескомпромиссная сатира над всеми «невероятно напыщенными, но бесконечно пустыми» викторианскими устоями и нормами. Если Дориан Грей отражает тёмную сторону человека, как такового, со всеми его низменными прихотями, эгоистичными желаниями и тягой к нарциссизму, то Лорд Генри - это dunkler doppelgänger всего высшего английского общества конца 19 века. Под роль Гретхен (Маргариты) попадает Сибила Вэйн, новый Валентин — Джеймс Вэйн. Основным же источником вдохновения для Уайльда служил, как мне кажется, аллегорический роман Бальзака «Шагреневая кожа». Декадентский же дух произведения восходит к тогда невероятно модному роману Гюисманса «Наоборот» 1884 года. Вероятно, это и есть та книга, которую лорд Генри даёт Дориану. А к готическому роману «Мельмот Скиталец» относится идея о таинственном портрете, прототип которого не старится, и отчасти герой, который может позволить себе всё. Собственно говоря, автор «Мельмота» Чарльз Роберт Метьюрин приходился Уальду двоюродным дедушкой, поэтому само произведение было знакомо ему с детства. «Портрет Дориана Грея» очень целостное произведение, где каждая деталь прописана неспроста, а с определённым умыслом. Его тончайшая характеристика всей скрытой пошлости викторианского периода достойна только самых громких оваций, но самая изюминка состоит в том, что роман значительно опережает своё время. Опережает на полтора столетия, как минимум, ибо время, когда определяющими стали формализм и бездушие, когда внешнее и поверхностное полностью превалирует над внутренним и глубинным, когда важна только форма, а не содержание, стремление казаться, а не быть, потеря личностной индивидуальности в угоду трендов и модных течений, внутренний (да порой и внешний) примитивизм отношений между людьми и желание получать от жизни всё, но ничего не давать взамен - это не про вчерашний день. Ой, нет, вовсе не про вчерашний. Это про день сегодняшний (а может и завтрашний). И вот таков его портрет...
Пікір пайдалы ма? Иә (4)

Глупо и совершенно бессмысленно писать о том, что социально-психологический и социально-философский роман Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и Наказание» - это не просто бриллиант в короне классической русской и мировой литературы, а Великое Произведение Вне Времени, которое должен прочитать каждый хотя бы один раз, поскольку проблематика ставшая центральной темой всего романа невероятно актуальна не только для России середины 19-го века, но и для всего нашего социума (в самом глобальном смысле) по сегодняшний день. Это, я полагаю, и так все прекрасно знают. И это даже вполовину не отражает всей монументальности работы Достоевского. Федор Михайлович не просто «знаток душ человеческих», который идеально отточенными и невероятно точными формулировками создаёт достоверные психологические портреты самых разных людей из самых разных слоев общества. Он человек, который способен пролить свет на самые скрытые и самые гнусные пороки этого самого общества. Он точно знает и видит тот предел после которого раздираемая внутренними противоречиями и внешними проблемами личность теряет всякую человечность и идёт на преступление, пусть и прикрываясь некими весьма абстрактными сверх-идеями (которые, по факту, и гроша ломаного не стоят, а убив старуху и её сестру вторым Наполеоном не стать). Нет. Не просто на преступление. Идёт на убийство. Двойное. И Достоевский показывает читателю этот предел во всей своей неприглядности. И постоянно дискутирует с ним (читателем), как на тему самого преступного акта, так и на тему того, а что ближе конкретно тебе и как с этим потом жить. Как оправдаться перед самим собой за совершённое и стоит ли вообще такое оправдание чего-либо? И какова расплата за содеянное? Ведь по счетам всё-равно придётся заплатить. Так или иначе. Человеческая психика не железная, она легко ломается, а закон бумеранга ещё никто не отменял. И он может тебя размазать за твой поступок, даже без руки Правосудия, поскольку от самого себя всё равно не скроешься. Это роман о невероятном психологическом разломе, который происходит с человеком перешедшим черту, о самоотречении, о самоедстве, о невозможности существования прежней личности с грузом такого деяния. «Преступление и наказание» — это роман неразрешимых ситуаций и роковых, чреватых трагическими последствиями решений. Это история не только убийства и его последствий, но и того, что почти все герои книги чем-то жертвуют: свободой, принципами, жизнью. Одни ищут спасения или Спасителя, другие просто тонут. Эта книга вполне способна перевернуть всё ваше литературное самосознание. Она может взбудоражить вашу кровь и привести все ваши эмоции вместе с душевным состоянием в крайнюю степень экзальтации. Здесь восхитительно прописаны буквально все и всё, начиная с первой строчки и до самого финала, переплетение событий, судеб, того как персонажи книги чувствуют, как страдают, восхищаются, плачут или умирают, как детально прорисована атмосфера происходящего. Это то самое произведение искусства от которого невозможно оторваться ни одним видом чувств. Оно полностью завладевает вами, затягивает в свою тёмную, вязкую и тягучую атмосферу, и не отпускает ещё очень долго. А очередное прекрасное, во всех отношениях, издание от МИФ в их «классической» серии подтолкнёт вас ещё раз вернуться в жутковатый и гротескный Петербург Достоевского. Пусть хоть через год или два, а может пять или десять лет, но вы вернётесь.
Оставаясь целиком и полностью объективным могу сказать, что у «Преступления и Наказания» не может быть никаких недостатков. И не потому что «Это же Достоевский! Это Классика! Это знать надо!» и «Ого!!! Вот так история!», а из-за того, что это идеально выверенное, глубоко продуманное и мастерски написанное произведение. Да, оно мрачное, гнетущее, депрессивное, оставляющее в душе какую-то холодную пустоту и вгоняющее в очень специфическую меланхолию надолго после своего прочтения. Но это невозможно отнести к недостаткам, поскольку наша жизнь не состоит сплошь из розовых облаков. Порой в ней встречаются, и чёрные ленты, и красные гвоздики. Ничего тут не поделаешь. К данному изданию тоже никаких вопросов. Оно прекрасного качества и исполнения.
«Я просто убил, для себя убил; для себя одного… Мне другое надо было узнать… Смогу ли переступить или не смогу!… Тварь ли я дрожащая, или право имею»
Казалось бы, что может быть проще, нежели отнять жизнь у другого человеческого существа? Прекратить навсегда чей-то стук сердца и биение пульса. Целенаправленно. Хладнокровно. Отстраненно. Особенно, если ты чувствуешь своё собственное превосходство над всей этой жалкой и серой, безликой и безмолвной, людской массой. Они - ничто, зато ты ведом только своей ВОЛЕЙ. Ты - личность, ты - индивидуальность. Для тебя неписаны все эти нелепые нормы морали, человеческие или божьи законы, ты чужд навязанной обществом нравственности. У тебя собственная шкала измерения Добра и Зла. Ты готов пересечь ту невидимую черту, преступив которую невозможно вернуться обратно. Нет, убить - это очень легко. Взмах топора, удар ножа, разорвавший напополам тишину выстрел (с огнестрельным оружием и того всё проще. Обойма на месте, два ритмичных щелчка затвора, клик-клак, указательный палец на спусковом крючке, БАМ!!!, вспышка сверхновой, и наступает конец чьим-то мечтам, желаниям, стремлениям и фантазиям, навечно гаснет целая внутренняя вселенная) и всё… дело сделано. Ты исполнил то самое, на что серая масса никогда не будет способна, ибо она слишком труслива, слишком слаба, слишком примитивна и слишком ведома своим пастухом. Никто не увидит капель крови на твоей одежде, ведь ты всегда одет в чёрное, никто не увидит сомнения или раскаяния на твоём лице, ведь ты непоколебим, никто не увидит алых пятен на твоих руках, ведь твои руки в таких же чёрных, словно сама тьма, перчатках. Но вот что-то… что-то невидимое внутри тебя навсегда надломленно. Этого не починить и не исправить. Что-то разделилось на два осколка - «до» и «после». Их уже не собрать в единое целое. И вот это тебе придётся принять. Твоя воля тут уже ничего не решает. Тебе придётся жить с этим и принимать последствия своего поступка. А последствия будут. В той или иной форме, но они всегда есть… Замысел «Преступления и наказания» созревал у Достоевского в течение многих лет, однако центральная тема, связанная с идеей главного героя об «обыкновенных» и «необыкновенных» людях, начала формироваться только в 1863 году в Италии, хотя ранний концепт произведения о так называемой «сильной личности», не боящейся ни угрызений совести, ни людского суда, начал созревать у Достоевского ещё тогда, когда он был сослан на каторгу. Криминальная история стала для автора не только темой, но и поводом для размышлений о социальных обстоятельствах, толкающих человека на преступления, а также возможностью показать, какие сложные «химические» процессы происходят в душах людей. Тут происходит всестороннее изучение психологии человека по ту сторону черты закона и морали. Глубокий психологический портрет и анализ убийцы выведенный Федором Михайловичем здесь - способен вызвать интерес у самых дотошных любителей криминологии, психопатологии и юриспруденции. Сама структура повествования выстроена по крайне нестадартной для того времени формуле «перевернутого детектива»: когда читатель, практически с самого начала, знает кто убийца, как и почему совершено преступление, каким образом преступник его готовил и теперь пытается скрыть следы. Главной интригой становится лишь то, как следователю (Порфирий Петрович имевший заурядную внешность, очень простые, хотя всегда вежливые манеры, вкрадчивую, но одновременно обволакивающую, речь, мало смахивает на образ высокоинтеллектуального героя-детектива или высококлассного сыщика. Однако за этим образом «простачка» скрывается острый ум, наблюдательность, упорство и глубокое знание человеческой психологии) удастся его разоблачить. Интеллектуальная дуэль между Порфирием Петровичем и Раскольниковым состоит из трех раундов (трёх актов трагедии) и в каждой из них следователь логичен и интуитивен, умён и хитёр, осторожен и смел, его детективный modus operandi не фиксирован - он постоянно меняется и адаптируется оставляя всё меньше и меньше пространства для маневра Раскольникову. Психологически распознав в бывшем студенте-юристе убийцу, Порфирий Петрович теперь дожимает его, выматывает своими наводящими вопросами, сказанными вскользь каверзными фразами или провокационными репликами заставляя Раскольникова раскрыться. В итоге, преступник полностью надломлен и повержен. История начинавшаяся с борьбы характеров завершается сокрушительным поражением одного из противников. И всё же основная тема, развиваемая в «Преступлении и Наказании» - это, так называемый, «наполеонизм». Т.е. право «сильной личности» нарушать любые нравственные нормы, обязательные для обыкновенных людей, «не останавливаясь и перед кровью». Тема была крайне трепещущей в 19 веке и была затронута ещё Пушкиным. Его герои — Германн из «Пиковой дамы» («человек с профилем Наполеона и душой Мефистофеля»), Сильвио из повести «Выстрел» — стали литературными предшественниками Раскольникова, который перенял их «мрачные сомнения и душевные терзания». Как говорит страдающий крайней формой «наполеонизма» сам Раскольников (постоянно теоретизирующий о том, что люди делятся на обычных людей, плывущих по течению, и людей, подобных Наполеону, которым дозволено всё. До убийства он, само собой, причисляет себя ко второй категории; однако после убийства обнаруживает, что в полной мере относится к первой) в романе: «Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть». Помимо соотечественников у Раскольникова было много «родственников» и в зарубежной литературе: это поклонник Наполеона Жюльен Сорель из романа Стендаля «Красное и чёрное», Эжен де Растиньяк из бальзаковского «Отца Горио», Медард — герой романа Э.Т.А.Гофмана «Эликсиры сатаны», безусловно шекспировский Гамлет и даже доктор Фауст из бессмертной трагедии Гёте. К числу литературных предшественников Раскольникова можно смело отнести и мятежных героев-романтиков, среди которых выделяются байроновские гордые индивидуалисты Корсар, Лара, Манфред. Стоит также отметить, что одним из важнейших образов романа стал большой город второй половины XIX века, жизнь в котором полна конфликтов и драм. Петербург тут не просто место действия, а равноправный и даже, возможно, главный герой романа. Сам Достоевский считал Петербург и «самым умышленным», и «самым фантастическим городом в мире». Размышления о том, как он воздействует на внутренний мир человека, писатель вложил в уста Свидригайлова (как по мне, главного отрицательного персонажа всего произведения. Он отрицателен по своей сути, отрицателен целиком и полностью, его стихия - это порок в любых своих проявлениях, он, можно сказать, Мефистофель этой истории), который в разговоре с Раскольниковым замечает: «Петербург — город полусумасшедших. Редко где найдётся столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге! Чего стоят одни климатические влияния!» А ещё Петербург Достоевского - это город-двойник, который, как кривое зеркало, отражает сам себя со всеми этими доходными домами, чёрными лестницами, похожими на гроб каморками, полицейскими управлениями и кабаками… Это не город Невского Проспекта. Это его тёмная и отталкивающая изнанка. Ну, а что же там сам Родион Раскольников, который проживает в этом «злом двойнике» Петербурга и являющийся главным действующим лицом всего романа? Несмотря на всю свою угрюмость, гордыню, высокомерие и презрение к обществу, личность Раскольникова неоднозначная и сложная, ибо он может быть, и совестливым, и сострадательным, и искренним в своих порывах (только вот куда заводят его эти порывы…), он не лишен эмпатии к другим людям, его чувства не полностью атрофированные. Но всё-равно он остаётся убийцей. Назад ходу для него нет - он самолично сжёг все мосты. И самое интересное в том, что в конце он своей вины так и не признал по поводу убийства, а сожалел больше о том, что не смог быть тем самым сверх-человеком (не в ницшеанском плане, конечно же), который "имеет право на убийство". А теперь, пожалуй, о том, в чём же состоит Преступление, на самом деле? Оно всё же скрыто не в убийстве старухи-процентщицы и её сестры, а убийстве себя как личности. Наказание же – это оценка действий собственным разумом и сердцем, невозможность оставаться прежним собой после содеянного, и уж так повелось, что человек «поедающий» себя изнутри порой наказывает себя сильнее, чем буква закона. Всеобщее и публичное покаяние, распад его ничтожной теории, где позволена кровь по совести, и в клочья размозженное и попранное его достоинство с горьким признанием того, что он не какой-то там особенный ум, а попросту «тварь дрожащая» (такая же «вошь», как и убиенная им старуха), и права всё-таки не имеет — служат для него тем самым истинным наказанием, а вовсе никакая не ссылка. P.S. Я читаю «Преступление и Наказание» уже в третий раз и почему-то всегда после прочтения тяжёлая и трагическая история Родиона Раскольникова вызывает у меня желание переслушать синтвейв-композицию Annie - Anthonio (Berlin Breakdown Version) из саундтрека к фильму «Гость» (The Guest) 2014 года. Не знаю даже почему (может это поёт голос Сони Мармеладовой - самого чистого, самого светлого, самого доброго и самого стойкого персонажа всей книги? Ну, а может и нет), но для меня эта песня, пусть и каким-то странным образом, передаёт собой настроение всего романа. Велл… она снова у меня на репите.
Казалось бы, что может быть проще, нежели отнять жизнь у другого человеческого существа? Прекратить навсегда чей-то стук сердца и биение пульса. Целенаправленно. Хладнокровно. Отстраненно. Особенно, если ты чувствуешь своё собственное превосходство над всей этой жалкой и серой, безликой и безмолвной, людской массой. Они - ничто, зато ты ведом только своей ВОЛЕЙ. Ты - личность, ты - индивидуальность. Для тебя неписаны все эти нелепые нормы морали, человеческие или божьи законы, ты чужд навязанной обществом нравственности. У тебя собственная шкала измерения Добра и Зла. Ты готов пересечь ту невидимую черту, преступив которую невозможно вернуться обратно. Нет, убить - это очень легко. Взмах топора, удар ножа, разорвавший напополам тишину выстрел (с огнестрельным оружием и того всё проще. Обойма на месте, два ритмичных щелчка затвора, клик-клак, указательный палец на спусковом крючке, БАМ!!!, вспышка сверхновой, и наступает конец чьим-то мечтам, желаниям, стремлениям и фантазиям, навечно гаснет целая внутренняя вселенная) и всё… дело сделано. Ты исполнил то самое, на что серая масса никогда не будет способна, ибо она слишком труслива, слишком слаба, слишком примитивна и слишком ведома своим пастухом. Никто не увидит капель крови на твоей одежде, ведь ты всегда одет в чёрное, никто не увидит сомнения или раскаяния на твоём лице, ведь ты непоколебим, никто не увидит алых пятен на твоих руках, ведь твои руки в таких же чёрных, словно сама тьма, перчатках. Но вот что-то… что-то невидимое внутри тебя навсегда надломленно. Этого не починить и не исправить. Что-то разделилось на два осколка - «до» и «после». Их уже не собрать в единое целое. И вот это тебе придётся принять. Твоя воля тут уже ничего не решает. Тебе придётся жить с этим и принимать последствия своего поступка. А последствия будут. В той или иной форме, но они всегда есть… Замысел «Преступления и наказания» созревал у Достоевского в течение многих лет, однако центральная тема, связанная с идеей главного героя об «обыкновенных» и «необыкновенных» людях, начала формироваться только в 1863 году в Италии, хотя ранний концепт произведения о так называемой «сильной личности», не боящейся ни угрызений совести, ни людского суда, начал созревать у Достоевского ещё тогда, когда он был сослан на каторгу. Криминальная история стала для автора не только темой, но и поводом для размышлений о социальных обстоятельствах, толкающих человека на преступления, а также возможностью показать, какие сложные «химические» процессы происходят в душах людей. Тут происходит всестороннее изучение психологии человека по ту сторону черты закона и морали. Глубокий психологический портрет и анализ убийцы выведенный Федором Михайловичем здесь - способен вызвать интерес у самых дотошных любителей криминологии, психопатологии и юриспруденции. Сама структура повествования выстроена по крайне нестадартной для того времени формуле «перевернутого детектива»: когда читатель, практически с самого начала, знает кто убийца, как и почему совершено преступление, каким образом преступник его готовил и теперь пытается скрыть следы. Главной интригой становится лишь то, как следователю (Порфирий Петрович имевший заурядную внешность, очень простые, хотя всегда вежливые манеры, вкрадчивую, но одновременно обволакивающую, речь, мало смахивает на образ высокоинтеллектуального героя-детектива или высококлассного сыщика. Однако за этим образом «простачка» скрывается острый ум, наблюдательность, упорство и глубокое знание человеческой психологии) удастся его разоблачить. Интеллектуальная дуэль между Порфирием Петровичем и Раскольниковым состоит из трех раундов (трёх актов трагедии) и в каждой из них следователь логичен и интуитивен, умён и хитёр, осторожен и смел, его детективный modus operandi не фиксирован - он постоянно меняется и адаптируется оставляя всё меньше и меньше пространства для маневра Раскольникову. Психологически распознав в бывшем студенте-юристе убийцу, Порфирий Петрович теперь дожимает его, выматывает своими наводящими вопросами, сказанными вскользь каверзными фразами или провокационными репликами заставляя Раскольникова раскрыться. В итоге, преступник полностью надломлен и повержен. История начинавшаяся с борьбы характеров завершается сокрушительным поражением одного из противников. И всё же основная тема, развиваемая в «Преступлении и Наказании» - это, так называемый, «наполеонизм». Т.е. право «сильной личности» нарушать любые нравственные нормы, обязательные для обыкновенных людей, «не останавливаясь и перед кровью». Тема была крайне трепещущей в 19 веке и была затронута ещё Пушкиным. Его герои — Германн из «Пиковой дамы» («человек с профилем Наполеона и душой Мефистофеля»), Сильвио из повести «Выстрел» — стали литературными предшественниками Раскольникова, который перенял их «мрачные сомнения и душевные терзания». Как говорит страдающий крайней формой «наполеонизма» сам Раскольников (постоянно теоретизирующий о том, что люди делятся на обычных людей, плывущих по течению, и людей, подобных Наполеону, которым дозволено всё. До убийства он, само собой, причисляет себя ко второй категории; однако после убийства обнаруживает, что в полной мере относится к первой) в романе: «Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть». Помимо соотечественников у Раскольникова было много «родственников» и в зарубежной литературе: это поклонник Наполеона Жюльен Сорель из романа Стендаля «Красное и чёрное», Эжен де Растиньяк из бальзаковского «Отца Горио», Медард — герой романа Э.Т.А.Гофмана «Эликсиры сатаны», безусловно шекспировский Гамлет и даже доктор Фауст из бессмертной трагедии Гёте. К числу литературных предшественников Раскольникова можно смело отнести и мятежных героев-романтиков, среди которых выделяются байроновские гордые индивидуалисты Корсар, Лара, Манфред. Стоит также отметить, что одним из важнейших образов романа стал большой город второй половины XIX века, жизнь в котором полна конфликтов и драм. Петербург тут не просто место действия, а равноправный и даже, возможно, главный герой романа. Сам Достоевский считал Петербург и «самым умышленным», и «самым фантастическим городом в мире». Размышления о том, как он воздействует на внутренний мир человека, писатель вложил в уста Свидригайлова (как по мне, главного отрицательного персонажа всего произведения. Он отрицателен по своей сути, отрицателен целиком и полностью, его стихия - это порок в любых своих проявлениях, он, можно сказать, Мефистофель этой истории), который в разговоре с Раскольниковым замечает: «Петербург — город полусумасшедших. Редко где найдётся столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге! Чего стоят одни климатические влияния!» А ещё Петербург Достоевского - это город-двойник, который, как кривое зеркало, отражает сам себя со всеми этими доходными домами, чёрными лестницами, похожими на гроб каморками, полицейскими управлениями и кабаками… Это не город Невского Проспекта. Это его тёмная и отталкивающая изнанка. Ну, а что же там сам Родион Раскольников, который проживает в этом «злом двойнике» Петербурга и являющийся главным действующим лицом всего романа? Несмотря на всю свою угрюмость, гордыню, высокомерие и презрение к обществу, личность Раскольникова неоднозначная и сложная, ибо он может быть, и совестливым, и сострадательным, и искренним в своих порывах (только вот куда заводят его эти порывы…), он не лишен эмпатии к другим людям, его чувства не полностью атрофированные. Но всё-равно он остаётся убийцей. Назад ходу для него нет - он самолично сжёг все мосты. И самое интересное в том, что в конце он своей вины так и не признал по поводу убийства, а сожалел больше о том, что не смог быть тем самым сверх-человеком (не в ницшеанском плане, конечно же), который "имеет право на убийство". А теперь, пожалуй, о том, в чём же состоит Преступление, на самом деле? Оно всё же скрыто не в убийстве старухи-процентщицы и её сестры, а убийстве себя как личности. Наказание же – это оценка действий собственным разумом и сердцем, невозможность оставаться прежним собой после содеянного, и уж так повелось, что человек «поедающий» себя изнутри порой наказывает себя сильнее, чем буква закона. Всеобщее и публичное покаяние, распад его ничтожной теории, где позволена кровь по совести, и в клочья размозженное и попранное его достоинство с горьким признанием того, что он не какой-то там особенный ум, а попросту «тварь дрожащая» (такая же «вошь», как и убиенная им старуха), и права всё-таки не имеет — служат для него тем самым истинным наказанием, а вовсе никакая не ссылка. P.S. Я читаю «Преступление и Наказание» уже в третий раз и почему-то всегда после прочтения тяжёлая и трагическая история Родиона Раскольникова вызывает у меня желание переслушать синтвейв-композицию Annie - Anthonio (Berlin Breakdown Version) из саундтрека к фильму «Гость» (The Guest) 2014 года. Не знаю даже почему (может это поёт голос Сони Мармеладовой - самого чистого, самого светлого, самого доброго и самого стойкого персонажа всей книги? Ну, а может и нет), но для меня эта песня, пусть и каким-то странным образом, передаёт собой настроение всего романа. Велл… она снова у меня на репите.
Пікір пайдалы ма? Иә (8)

Быть культурным человеком в Китае не так-то и просто, как вам кажется: попробуйте прочитать хотя бы четыре классических романа (а это более 6 тысяч страниц), не говоря уже о бесчисленных произведениях писателей и поэтов рангом пониже. Авторство «Развеянных чар» (дословный перевод названия: «Повествование об усмирении нечисти») раньше приписывали Ло Гуаньчжуну, знаменитому автору того самого легендарного и бессмертного «Троецарствия», творившему в XIV веке. Считалось, что он написал 6 романов, то есть как раз более 6 тысяч страниц. Каков размах! Сейчас же авторство под вопросом, достоверно известно только то, что редактором и создателем окончательной версии романа является Фэн Мэнлун. Помимо литературной традиции, растянутой на столетия (XIV-XVII века), и загадки авторства, в тексте нашли отражения народные сказания, легенды, отголоски китайского фольклора, философские притчи, религиозные вероучения, ну, само собой, что «Чары» - это самый «достоверный» источник информации о жизни, повадках и взаимоотношениях с людьми лис-оборотней («Рассказы о необычайном» Пу Сун-лина, иногда претендующие на это место, по сравнению с «Чарами» более похожи на сборник кратких советов и лайфхаков).«Развеянные чары» - отличный образец классического китайского романа, в котором сюжет охватывает несколько десятков лет, множество разнообразных событий, невероятных приключений и героев (но, конечно, не в таком количестве как в том же «Троецарствии» или «Речных заводях»). Повествование часто раздваивается, а потому уже к середине представляет собой мощное разветвлённое дерево - каждый герой живёт своей жизнью, а мы следим за всеми. Ощущения хаоса и мозаичности при этом нет - разные сюжетные линии очень ловко сплетены в одну сеть. Все сорок глав от начала до конца - эдакое замысловатое восточное Волшебство. Вайб чистейшего азиатского таинства тут сохраняется с первой и до последней страницы. Да, это очень специфическая проза, это фольклор - колоритный и своеобразный, но какой же затягивающий, мммм... Едва уловимо чувствуется, как устный народный сказ, гармонично переливается в повествовательную прозу. Сложная, порой даже переусложненная, но очень красивая формулировка мысли, глубокий философский подтекст, ярчайшие оттенки языка и поэтичность, гармония и удивительная образность, Выдумка, искусно выдаваемая за правду, и вместе с тем, сохраняющая свое право быть Легендой, высокая нравственность, показывающая ЧТО и КАК должно БЫТЬ (но никоим образом вам этого не навязывающего. Выбор всегда за читателем) - все это ( и не только) нашло свое отражение на страницах данной книги. Помимо этого, Развеянные чары уникальны и своей авторской подачей (уж чьей именно так и останется за кадром). За весь процесс чтение вы не встретите даже намека на отношение автора к своим героям, событиям и/или обстоятельствам. Восприятие строится исключительно самостоятельно, когда уверенно сказать "ты хороший, ты плохой" просто не получается, даже на субъективном уровне. Тут нет разделения на банальное черное и белое, на плохих парней и хороших ребят, на «наших» и «не-наших». Тут линия фронта проходит внутри вас самих и вам решать к чьи баррикадам примкнуть в изложенном конфликте. И это затянет вас ещё больше, если вы действительно проникнитесь этим произведением.
Человеку далекому от всей этой «китайской тарабарщины» с кучей непонятных имён, городов, временных периодов, древнекитайских богов, бесконечных монахов, императоров, полководцев, круговерти реинкарнаций, безудержного колдовства и вездесущих лис с обезьянами, желательно воздержаться от попытки чтения данной книги. Если есть желание ознакомиться с чем-то подобным, но не так, чтобы голова от сносок закипала уже ко второй главе, то лучше начать с «Рассказов о необычайном» Пу Сун-лина. Там куда всё более лайтовенько, и если, что называется, вкатит, то можно и за «Чары» приниматься. Ещё не повредит знакомство с книгой Тао Тао Лю «Китайские мифы. От царя обезьян и Нефритового императора до небесных драконов и духов стихий», которая значительно облегчит знакомство с любой мистико-фэнтезийной китайской литературой. А если данный азиатский сеттинг не ваш от слова «совсем», то и утруждать себя ничем не стоит. Тут всё-таки своя специфика и весьма своеобразный колорит, который не каждому подходит.
Итак, дух белой обезьяны Юань-гун похищает из небесной шкатулки «Книгу исполнения желаний», где говориться о 108 способах даосских превращений (36 – великих и 72 – малых) и переносит содержимое книги на стены своей земной пещеры. С этого момента начинается повествование о том, как тайные знания проникли в мир людей и как лисы-оборотни воспользовались ими для исполнения своих желаний и воплощения собственных фантазий в реальность. Костяк сюжета «Развеянных Чар» - это приключения трёх лис-оборотней (Святой тётушки и её детей - беспутного сына Ху Хромого и более талантливой дочери Ху Мэйэр). Святая тётушка овладевает магическим искусством и собирает вокруг себя таких же знающих соратников - в основном монахов даосов и буддистов. Кого-то тётушка обучает лично, кто-то приходит с багажом знаний. Вся эта компания путешествует по огромному Китаю, иногда вместе, иногда порознь, ввязывается в разные истории, одним помогает, других карает, творит чудеса (вызывает дожди, оживляет статуи), живёт довольно событийно и, на первый взгляд, как будто безобидно. Только в 18 главе издаётся высочайший указ, предписывающий выявлять случаи колдовства и доносить о них властям, после чего (с учётом глубокого уважения китайцев к государственным институтам и лично императору) становится очевидно, что оборотни и вся их весёлая компания скорее всего натворят дел, а потом отгребут неприятностей. Так оно, в принципе, и получается. Невинные колдовские трюки становятся всё более опасными, лисы и их компания начинают играть с огнём и вот тут-то и проявляется их истинная сумеречная природа: помимо обольстительности, ловкости и ума включаются коварство и распутство. Интересно, что братец-лис любит женщин с пониженной, так сказать, социальной ответственностью и выпивку (желательно, чтобы за чужой счёт) с самого начала, а вот его сестрица сначала производит очень приятное впечатление. Даже жаль было наблюдать за её эволюцией в обратную сторону вниз по нисходящей. Моральная составляющая в китайском романе всегда имела и имеет особое значение, но эта мораль не нравоучительна и не всесильна. Моральные дилеммы часто нивелируется фатализмом и предопределённостью - семейка лис-оборотней начинает своё дельце, потому что так предрешено, полководец одерживает победу, потому что это вписано в небесную книгу. Но одно другому не мешает, более того, цепочка перевоплощений призвана доказать, что за всё совершённое в прошлой жизни придётся расплатиться в нынешней. Поэтому автор время от времени открыто проговаривает, как должен жить благочестивый человек:
«Поистине, развратники и сластолюбцы редко доживают до тридцати…» или «Чти повелителя, если он праведен, разбей лжеправителя в прах!». В достаточно легкой манере (до определенного момента) произведение поднимает вопросы, столь трепещущие для философских школ Дальнего Востока, как дуалистическая сущность вселенной и всего нашего мирского бытия (зыбкость происходящего в нашем мире и двойственная природа всего, всех и вся отлично передана через образы лис-оборотней) и двойственность самой человеческой натуры. Да и реален ли вообще этот мир или это всего лишь чей-то сон? А может быть наша реальность просто искусно сплетенная иллюзия (уже само название неиллюзорно так намекает)? Книга насквозь пронизана даоским учением, китайским буддизмом (Махаяна, или учение о Большой колеснице) главные постулаты которого – это неумолимое влияние прошлого на настоящее и теория перерождения, ну, и философскими воззрениями Чжуан Цзы, чья притча про сон бабочки («…И я не знал, то ли я Чжуан Чжоу, которому приснилось, что он — бабочка, то ли бабочка, которой приснилось, что она — Чжуан Чжоу.») неоднократно обыгрывается на протяжении всего повествования самыми разными способами. Тут совсем не лишнее вспомнить и про Ямамото Цунэтомо, который следовал данной мысли в своём «Хагакурэ» («Правильно поступает тот, кто относится к миру, словно к сновидению. Когда тебе снится кошмар, ты просыпаешься и говоришь себе, что это был всего лишь сон. Говорят, что наш мир ничем не отличается от такого сна.») и древнеиндийские Упанишады, да и сами истоки индуизма (“Мы как паук,” сказал царь. “Мы плетём нашу жизнь, а потом идём по ней дальше. Мы - словно спящий, который видит сны и живет внутри сна.”). К слову, огромное внимание в «Развеянных чарах» уделено карме и кармическому воздаянию. Абсолютно все персонажи книги (и условно положительные, и условно отрицательные) по итогу получают то, на что, как говорится, наработали (и если даже не в этой жизни, так в следующей обязательно). Это одна из основных идей всей книги наравне с дуализмом мироздания и всего сущего, а также диалектикой Дао. Жизнь и Смерть, Война и Мир, Благородство и Подлость, Честность и Ложь, Любовь и Ненависть - всё это лишь две стороны одной монеты. И эта монета зовётся кармой. Во многом это всё перекликается с классическим «Сном в Красном Тереме», но если там имеет место быть драматическое повествование лишь с небольшими вкраплениями юмора и сверхъестественного, то тут у нас полноценный разухабистый фэнтезийный шабаш полный всевозможных духов, демонов, злопамятных колдунов, весьма-таки темпераментных ведьм, вечно соперничающих друг с другом заклинателей, яшмовых владык, запойных монахов, даосских ренегатов-чернокнижников, оборотней (не лисы), которые то скамейкой, то тигром обернутся, похотливых фокусников-шарлатанов, честных, умных, отважных, но часто опальных, генералов, хитрых и изворотливых казнокрадов приближенных к самому Императору, любвеобильных придворных дам, праздношатающихся мастеров боевых искусств, которые ударом пятки способны гору расколоть (иди гуляй, Чак Норрис), зловредных чинуш и бюрократов из Небесной Канцелярии и, конечно же, лис. Лисы тут наше всё. А ещё роман полон иронии (очень часто уходящей в откровенно-едкую социальную сатиру на китайское общество XIV и XVII веков) и кичливой сюрреалистичности всего происходящего вокруг (ну, и как тут не задуматься про то, что уж не приснилось ли всё это почтенному Ло Гуаньчжуну или редактировавшему его Фэн Мэнлуну 🤔). Такое под силу разрулить только бесподобному и великолепному Сунь Укуну, но наш «Великий Мудрец, Равный Небу» остался в «Путешествии на Запад». Хотя что там, что здесь, всё-равно всё началось с обезьяны, которая заскучала на небесах и устроила дикий переполох в Небесных Чертогах и всей Поднебесной (но дорогой братец Юань-гун, конечно, ни в какое сравнение не идёт с неподражаемым Укуном. Ни умом, ни харизмой, скажем прямо, он не вышел). Ну и, как говорится, что с обезьяны началось, то обезьяной и закончится. Лишь под конец становится очевидно, что сквозной сюжет построен в виде изящной параболы: начавшись с Небесной книги, события возвращаются к ней же. На возможные вопросы аккуратно дан ответ, концы подобраны. Пророчества исполняются самым неожиданным образом. Напряжение умело нагнетается. Власть колдовства нарастает постепенно, забавная сказка про весёлых лисьих безобразников мрачнеет на глазах и превращается в кровавый конфликт, а безобидные проделки перерастают в настоящую гражданскую войну. Обаятельные хитрованы с лисьими мордочками оборачиваются чем-то пугающе зловещим. За ними — хаос, бесовские силы, даже сам демон Мара. Но Карма есть Карма. От её беспощадного бумеранга никуда не денешься и не спрячешься. Она всё расставит по своим местам… «Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь — прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, — родишься баобабом,
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.» В. Высоцкий.
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, — родишься баобабом,
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.» В. Высоцкий.
Түсініктемелер: 2Пікір пайдалы ма? Иә (8)

«Искусство Войны» или же «Законы войны почтенного учителя Суня» - это, вне всяких сомнений, самый известный и широко цитируемый древнекитайский трактат посвящённый военной стратегии и политике. Основополагающий текст «школы военной философии», главный в её каноническом Семикнижии (У цзин ци шу). Состоящий из 13 крайне лаконичных глав (и обросший за прошедшие века обильными комментариями тянущими на отдельную книгу, а среди комментаторов были замечены и такие деятели, как Цао Цао из эпохи Троецарствия) и написанный (по крайней мере, как полагает большинство ученых) в VI - V веке до н.э., хотя современный канонический текст был сформирован примерно уже на рубеже II - III века н.э., легендарным военачальником и стратегом Сунь Цзы (он же Сунь У проживавший в эпоху Вёсен и Осеней У и Юэ), хотя в определенных кругах эта точка зрения по сей день оспаривается, а авторство трактата приписывается полководцу Сунь Биню жившему в царстве Ци в IV веке до н.э. в период Сражающихся Царств. Но, как говорится, не суть. А суть заключается в том, что зловещее слово «Война» преследовало человечество на протяжении всей его истории. Более того, Война - это тот фундамент на котором и стоит мировая история, ибо она прошла пунктирной линией через все века и все эпохи всех народов мира. Как бы печально это не звучало, но Война - это сердце истории и кровеносная система самой человеческой природы. И по сей день Война продолжает собирать свою кровавую жатву в самых разных уголках нашей планеты, ибо как пелось в бессмертном хите группы Dire Straits - Brothers in Arms: “There's so many different worlds. So many different suns. And we have just one world. But we live in different ones”… И именно поэтому данный трактат китайского полководца, который увидел свет более 2,5 тысяч лет назад, никогда не утратит своей актуальности и своей (да, это грустно и горько, но что есть - то и есть) злободневности. Он не погружает вас в пучину первозданной тьмы и мрака, которые Война всегда несёт за собой, подобно таким фильмам, как «Апокалипсис Сегодня», или книг подобных «На Западном Фронте без перемен», где разбирается истинная сущность войны, как явления совершенно анти-человеческого («в своем костре Война, в первую очередь, сжигает вовсе не твоё тело, она испепеляет твою душу», ну, а такие вещи, как ПТСР, это ещё легкий насморк на фоне многого того, чем Война тебя может «наградить»), но парадоксальным образом заложенного в нас на уровне генетического кода («…ведь чарли всё ещё там. Они засели в своих чёртовых джунглях, и ждут нас. Они всегда нас ждут…»), однако он учит тому, как обращаться с этим безжалостным зверем, учит тому, как можно им управлять, как подчинить себе и, самое главное, как добиться того, чтобы «Лучшее из Лучшего – покорить чужую армию, не сражаясь. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.» И вот в этом-то и заключается настоящее Искусство. Ну, а великолепно выполненное иллюстрированное издание от МИФ будет достойно смотреться на любой книжной полке и, пожалуй, что это лучшее переиздание (а уж сколько их было за эти годы…) этого древнего текста на русском языке.
Не обнаружены. Издание прекрасно, а текст никогда не устареет. Просто надо уметь вчитываться в него. У «Искусства Войны» такой смысловой подстрочник, что каждый раз эту книгу можно читать абсолютно по разному. Отсюда и такой объём различных пояснительных комментариев накопившийся за столетия от совершенно разных людей. Да, кто-то в этом увидит набор расплывчатых и маловразумительных восточных полу-намёков, которые к сегодняшнему дню безвозвратно устарели и никакого отношения к «modern warfare» не имеют, кто-то посчитает, что прочитал личный цитатник Капитана Очевидность, ну, а кто-то вчитается получше и увидит выкристаллизовавшуюся перед ним структуру того, что называют «Война» и того, как нужно её вести.
Если и существует некая «база» или же основа военного ремесла, то от чего отталкивается вся система развития воинского дела - это «Искусство Войны» Сунь Цзы. Полный конфуцианских афоризмов совмещенных с даосской диалектикой вселенского Пути, космическим циклизмом лежащим в основе концепции Инь-Янь и прагматизмом учения моистов - этот трактат, прошедший сквозь два тысячелетия и ставший основополагающим для развития искусства китайских стратегем (во всех 36 из них вы услышите эхо работы Сунь Цзы и заложенную в него диалектику верности и обмана, силы и слабости, воинственности и миролюбия), стал источником бесценных знаний для целого ряда выдающихся полководцев и военачальников из самых разных эпох, ибо это не только и не столько трактат о Войне, как таковой, сколько об искусстве быть успешным и могущественным Warchief’ом и Warlord’ом. Наполеон, как известно, взапой зачитывался «Искусством Войны», маршал Маннергейм также был страстным его поклонником, Отто фон Бисмарк и Карл фон Клаузевиц неоднократно в своих трудах по военному искусству ссылаются на бессмертный текст Сунь Цзы. Японский даймё периода Сэнгоку - легендарный Такэда Сингэн - выстроил всю военную стратегию клана Такэда по заветам «Искусства Войны» и прослыл практически непобедимым в любой битве, при этом даже не полагаясь на мощь огнестрельного оружие, которое уже начинало активно использоваться самурайскими кланами. Эта же книга вдохновила Сингэна на его широко известный боевой штандарт «Фу:ринкадзан» (Ветер, лес, огонь и гора), что означает «быстрый как ветер, тихий как лес, безжалостный как огонь и неподвижный как гора». Старина Мао со своими красными комрадами тоже не забыл про труд своего выдающегося соотечественника и не единожды отсылает к нему в своих работах по вопросам революции. Дядюшка Хо Ши Мин успешно модернизировал древний текст под нужды вьтконговских партизан в их борьбе с США, а генерал Во Нгуен Зиап и вовсе знал его наизусть, успешно применяя многочисленные уловки оттуда, которые позволили ему одержать ряд крупных побед над американской армией. Вьетнамская Война, которая стала Вьетнамской Катастрофой для американцев, также научила многому и военное командование ВС США. Теперь оно перестало игнорировать измышления древнего китайца, и сделало «Искусство Войны» одним из обязательных учебников при подготовке солдат Корпуса Морской Пехоты при ВМС США и «морских котиков» (бойцов элитного спецподразделения S.E.A.L.). Такие вот дела. Проходят столетия, но фундаментальные принципы ведения боевых действий и управления армией изложенные Сунь Цзы никуда не делись. Пока человечество продолжает вести кровопролитные войны «Искусству Войны» не грозит списывание в утиль. Оно по-прежнему актуально. Но главный парадокс данной книги вовсе не в её «долгожительстве» (тут-то как раз всё более, чем логично), нет, нет, нет… Главный парадокс «Искусства Войны» в том, что сам Сунь Цзы (давайте просто напомню, что речь у нас сейчас идёт не о каком-то соевом мальчике, который ничего тяжелее своего айфона в руках не держал, а о выдающемся полководце своей эпохи и гениальном стратеге прошедшем через кровавое месиво десятков битв и многократно громившего в пух и прах своих противников), скажем так, не любил войну и даже её презирал. Для него война всегда была, что называется «последним средством», необходимым злом (именно Злом в своём чистом виде. Сунь Цзы, в отличии от какого-нибудь фанатика-милитариста грезящего залитыми кровью глазами о воинской славе и наградах, прекрасно понимал с какой силой он имеет дело и что она из себя представляет), когда иного выхода попросту не существует . При любой же, даже самой крохотной, возможности - войны следует избегать и задействовать для этого любые дипломатические рычаги, какие только есть у государства и правителя (если, конечно, этот правитель наделен умом и дальнозоркостью, а не тешит свои больные амбиции кидая в адское пекло десятки и сотни тысяч людей). «Война — это как огонь, люди, которые не сложат оружия, погибнут от собственного же оружия». А ещё для Сунь Цзы война всегда была путём лжи и обмана. Ни про какие «мужественные подвиги», «воинскую славу и честь», «благородство» и т.д. он даже не заикается. Война - это всегда очень грязное и кровавое дело. Вот и всё. И Сунь Цзы знал об этом получше многих. Но порой безжалостное колесо истории поворачивается так, что приходится брать в руки оружие и замарать себя всей этой грязью и кровью. Ибо иного уже не дано. И раз так всё повернулось, то Сунь Цзы даёт ряд бесценных советов о том, как совладать с пожаром войны, как обернуть его против своего врага и даже немало преуспеть на воинском поприще, но всегда следует помнить о том, что «Бывают дороги, по которым не идут; бывают армии, на которые не нападают; бывают крепости, из за которых не борются; бывают местности, из за которых не сражаются; бывают повеления государя, которых не выполняют.»
Түсініктемелер: 1Пікір пайдалы ма? Иә (1)

Не секрет, что японская культура уникальна. И литература, как ее часть, тоже. Но эта книга уникальна уже тем, что она до нас дошла примерно спустя тысячелетие (не так уж и мало, согласитесь). Написанная на бумаге (сложно представить ее стоимость в то время) она сохранилась и стала классикой японской литературы.
Сами «Записки» - это дневник придворной дамы японской императрицы Садако (на тот момент Садако только исполнилось 17), которые были написаны на рубеже 10-11 веков н.э. Сёнагон здесь изливает свои мысли, своё восхищение императрицей, которая, кстати, и подарила ей бумагу, свои наблюдения, жизненные очерки, стихи и просто размышления «о том, что…». А название книга получила уже в современное время. Именно записками у изголовья называли дневники в Японии того времени и хранились они также в изголовье в специальных выдвижных шкафчиках кроватей. Эта книга невероятный кладезь информации о стране, культуре, государственных деятелях того времени, императоре, императрице, укладе, празднованиях, названиях местностей, растений и прочих. Без всякого преувеличения можно сказать, что по этой книге можно писать научную работу. И уже только с этой точки зрения книга будет интересна. Но её истинное наполнение куда глубже.
Сами «Записки» - это дневник придворной дамы японской императрицы Садако (на тот момент Садако только исполнилось 17), которые были написаны на рубеже 10-11 веков н.э. Сёнагон здесь изливает свои мысли, своё восхищение императрицей, которая, кстати, и подарила ей бумагу, свои наблюдения, жизненные очерки, стихи и просто размышления «о том, что…». А название книга получила уже в современное время. Именно записками у изголовья называли дневники в Японии того времени и хранились они также в изголовье в специальных выдвижных шкафчиках кроватей. Эта книга невероятный кладезь информации о стране, культуре, государственных деятелях того времени, императоре, императрице, укладе, празднованиях, названиях местностей, растений и прочих. Без всякого преувеличения можно сказать, что по этой книге можно писать научную работу. И уже только с этой точки зрения книга будет интересна. Но её истинное наполнение куда глубже.
Не стоит ждать от книги художественности. Это записи, воспоминания, эмоции, которые кому-то могут показаться странными и даже абсурдными. Здесь нет сквозной линии проходящей через всё произведение и нет даже намёка на сюжет. Это сборник мини-историй и размышлений. Не более того, но в этом и заключается прелесть сего произведения, хотя, разумеется, дневники тысячелетней давности из далёкой страны, где уклад жизни был всегда совершенно иным, могут совсем не каждому прийтись по вкусу.
«Записки у изголовья» – нечто похожее на записную книжку придворной фрейлины и блог периода Хэйан (раннее Средневековье, «досамурайский» период, пока вся полнота власти у Императора, а возвышение буси - воинов, тех самых самураев, ещё не состоялось. Тень самого первого сёганата ещё только зарождается где-то на окраинах страны и из башен императорского дворца её не видно. Люди признававшие только Силу, Честь и Отвагу ещё не превратили Императора в чисто номинальную фигуру, и страна всё ещё живёт по старым правилам) с историями о куртуазной любви, дворцовыми анекдотами и заметками об исторических персонах.
Имя автора не настоящее имя, а прозвище при императорском дворе. Сама Сэй-Сёнагон происходила из семьи Киёвара. Сэй – это односложное китайское прочтение первого из двух иероглифов, которыми она записывалась. Имени автора не сохранилось, так как женщинам в то время не давали имен. А «сёнагон» – это титул младшего государственного советника, в отношении женщины всего лишь шутливое прозвище.
Произведение не просто смелое, а скандальное для того времени, можно сказать шок-контент, которым зачитывались придворные, знавшие, кто именно там описан. «Записки у изголовья» нарушают общепринятые каноны изящного и эстетические запреты, в них очень точно подмечены детали дворцового быта и поведение придворных. Однако прошло столько лет, а человеческая природа нисколько не изменилась…
В те времена было модно на каждое событие писать стих танка, а образованность оценивалась по количеству томов со стихотворным наследием, которые человек помнит наизусть. Ну, что тут скажешь? Суровые времена - суровые нравы. И Сэй не оставила потомков без наследства - это определенно. Поэзию этой книги нужно цитировать, а простую красоту, лёгкость и чувственность стиля — перенимать. Записки Сэй Сёнагон переполняет исин-дэнсин (умение близких людей понимать друг друга без слов, бессловесное общение между родственными душами), но только не между двумя людьми, а между человеком и книгой, и тут она (книга) способна обходится минимумом слов, чтобы объять необъятное (человеческую душу), и в своей искренности она поистине становится вне времени. Все чувства Сэй, которые она испытывала более тысячи лет назад, смущение, сожаление, любовь к природе и наблюдению передаются читателю и остаются где-то в области сердца. Прямо здесь и прямо сейчас.
Имя автора не настоящее имя, а прозвище при императорском дворе. Сама Сэй-Сёнагон происходила из семьи Киёвара. Сэй – это односложное китайское прочтение первого из двух иероглифов, которыми она записывалась. Имени автора не сохранилось, так как женщинам в то время не давали имен. А «сёнагон» – это титул младшего государственного советника, в отношении женщины всего лишь шутливое прозвище.
Произведение не просто смелое, а скандальное для того времени, можно сказать шок-контент, которым зачитывались придворные, знавшие, кто именно там описан. «Записки у изголовья» нарушают общепринятые каноны изящного и эстетические запреты, в них очень точно подмечены детали дворцового быта и поведение придворных. Однако прошло столько лет, а человеческая природа нисколько не изменилась…
В те времена было модно на каждое событие писать стих танка, а образованность оценивалась по количеству томов со стихотворным наследием, которые человек помнит наизусть. Ну, что тут скажешь? Суровые времена - суровые нравы. И Сэй не оставила потомков без наследства - это определенно. Поэзию этой книги нужно цитировать, а простую красоту, лёгкость и чувственность стиля — перенимать. Записки Сэй Сёнагон переполняет исин-дэнсин (умение близких людей понимать друг друга без слов, бессловесное общение между родственными душами), но только не между двумя людьми, а между человеком и книгой, и тут она (книга) способна обходится минимумом слов, чтобы объять необъятное (человеческую душу), и в своей искренности она поистине становится вне времени. Все чувства Сэй, которые она испытывала более тысячи лет назад, смущение, сожаление, любовь к природе и наблюдению передаются читателю и остаются где-то в области сердца. Прямо здесь и прямо сейчас.
Түсініктемелер: 2Пікір пайдалы ма? Иә (5)

Деннис Лихэйн всемирно признанный мастер нуар-прозы и, так называемого, психо-нуара (чаще именуемого «психологическим триллером»). Знаток человеческих душ и самых тёмных закутков нашего разума. На мой взгляд, «Остров Проклятых» - это безусловная вершина его творческой деятельности. Здесь он размывает и без того тонкую грань между сном и явью, безумием и «нормальностью» (вопрос некой «нормы человеческого поведения» тут вообще не единожды поднимается, и ответ на него звучит из уст разных героев совершенно по разному), иллюзией и действительностью, покаянием и возмездием, погоней за самим собой и побегом от себя же, до столь тонкого слоя, что горизонт событий сливается в единое целое. На Острове Проклятых планета Земля вовсе не круглая - она плоская, и за краем лежит бездна. Привычная формула того, что у всего имеется двойное дно и всё вовсе не то, чем оно кажется, тут принимает размах грандиозной трагедии… трагедии, что постигла одного человека, и который потерял всё, даже самого себя. А мастерское владение автора приемами саспенса и аккуратно выстраиваемой, с каждой новой страницей, атмосферы безысходности затягивают за собой и читателя. Поверьте мне, читали ли вы книгу, смотрели ли блестящую экранизацию Скорсезе, но эта история вас так просто не отпустит. Как и главному герою, читателю (зрителю) тоже придётся многое осознать и, так или иначе, принять.
Существует мнение, что «Остров Проклятых» нужно либо смотреть (Скорсезе снял идеальную экранизацию идущую вровень с книгой от начала и до самого конца), либо читать. Третьего не дано, поскольку для многих впечатления будут уже не те, а главная интрига известна. Но, на мой субъективный взгляд, это не совсем так. В моем случае, как и у многих, первым был фильм, но эффекта от книги он не испортил даже на пол-звёздочки. Книга не просто расширяет и дополняет увиденное на экране, она ещё глубже погружает тебя в эту психо-драму и иногда заставляет смотреть на неё под совершенно другим углом. Плюс, простой и житейский язык автора заставляет проникнуться написанным с самых первых страниц. Но это сугубо личные ощущения, а вот как будет у вас предсказать невозможно.
Итак, 1954 год. Менее десяти лет прошло со времен самой кровопролитной войны в истории человечества, в небо уже взмыл ядерный гриб, опустился железный занавес, а холодная война вступила в свои ранние годы. Тем временем, судебный пристав Тедди Дэниэлс вместе со свои новым напарником Чаком (оба боевые ветераны ВМВ) прибывает на остров, единственным украшением которого является форт времен гражданской войны, ныне служащий психиатрической больницей для особо опасных преступников. Имеенно отсюда поступил сигнал, что из запертой, охраняемой комнаты пропала душевно больная женщина, убившая когда-то троих собственных детей. Но, по прибытии на остров, Тедди и Чак понимают, что они оказались в куда более затруднительной ситуации, а дело пропавшей пациентки обрастает не просто жуткими подробностями, подобно снежному кому, но и ведёт в самые глубины преисподней человеческого разума и души. Быстро становится понятно, что персонал от главврача и до последнего санитара что-то скрывают, а пропавшая точно не могла осуществить побег без посторонней помощи. И что за шифр она им оставила, что это за пациент №67 в больнице, где содержится только 66 человек? Для полной картины на остров обрушивается чудовищная буря, отрезающая их от остального мира, а у Тедди Дэниэлса внезапно просыпаются болезненные воспоминания о его прошлом связанным с войной, его погибшей женой и неким таинственным человеком известным под именем… Эндрю Леддис. «Остров Проклятых» - это одна из тех книг, которые заставляют задуматься над шаткостью нашего рассудка, над той невидимой гранью, что делят жизнь на «до» и «после», над нашим восприятием действительности.
Ведь кто может уверенно сказать, что он не сумасшедший? Только сумасшедший.
Учитывая наше время, учитывая хаос и ритм нашей жизни, а также, уровень стресса и объемы информации, думаю, что каждый после прочтения или в процессе задаст себе вопрос: «а все ли у порядке у меня?» Не потерял ли я себя где-то на одном из поворотов своей жизни? Я это по-прежнему Я? Или… Где ключ от комнаты моего здравомыслия, если на двери нет замка? В общем, подумать будет о чём, но лучше не думайте об этом когда у вас бессонница.
P.S. Стоит также добавить, что ещё один корифей и мэтр жанра «психо-нуара», но на этот раз от мира кино - культовый Дэвид Линч - неоднократно исследовал в своих фильмах тему побега от реальности и от самого себя (ярчайшие примеры тут, конечно же, «Шоссе в Никуда» и «Малхолланд Драйв»). Невозможность смириться с последствиями своих необратимых и абсолютно непростительных действий приводила линчевских героев за ту же грань спасательной иллюзии, где собственное «Я» растворяется в вымышленном образе порожденным искалеченным, от морально-психологической травмы, сознанием. Но от себя не убежишь, отражение всегда смотрит тебе прямо в глаза, сколько бы ты не пытался отвести взгляд. Иллюзия и благостный сон рушатся (No Hay Banda! Здесь нет музыкантов! Это лишь запись…), подобно карточному домику, и бремя ответственности уже прямо за твоей спиной. Это извечная тема преступления и наказания, которая, рано или поздно, все-равно настигает убегающего. И некуда деваться, некуда прятаться. Некуда бежать дальше. Дальше бетонная стена действительности. Дальше только Ты сам, твой Поступок и его Последствия. С произведением Лихэйна творчество Линча роднит очень многое, в принципе, но вот побег от реальности и себя самого - это краеугольный камень, который при детальном изучении вопроса оставляет в обоих случаях очень тяжелые мысли и вопросы без ответов, посколько разум человека остаётся, по сей день, далекой и непознанной планетой из другой галактики…
Ведь кто может уверенно сказать, что он не сумасшедший? Только сумасшедший.
Учитывая наше время, учитывая хаос и ритм нашей жизни, а также, уровень стресса и объемы информации, думаю, что каждый после прочтения или в процессе задаст себе вопрос: «а все ли у порядке у меня?» Не потерял ли я себя где-то на одном из поворотов своей жизни? Я это по-прежнему Я? Или… Где ключ от комнаты моего здравомыслия, если на двери нет замка? В общем, подумать будет о чём, но лучше не думайте об этом когда у вас бессонница.
P.S. Стоит также добавить, что ещё один корифей и мэтр жанра «психо-нуара», но на этот раз от мира кино - культовый Дэвид Линч - неоднократно исследовал в своих фильмах тему побега от реальности и от самого себя (ярчайшие примеры тут, конечно же, «Шоссе в Никуда» и «Малхолланд Драйв»). Невозможность смириться с последствиями своих необратимых и абсолютно непростительных действий приводила линчевских героев за ту же грань спасательной иллюзии, где собственное «Я» растворяется в вымышленном образе порожденным искалеченным, от морально-психологической травмы, сознанием. Но от себя не убежишь, отражение всегда смотрит тебе прямо в глаза, сколько бы ты не пытался отвести взгляд. Иллюзия и благостный сон рушатся (No Hay Banda! Здесь нет музыкантов! Это лишь запись…), подобно карточному домику, и бремя ответственности уже прямо за твоей спиной. Это извечная тема преступления и наказания, которая, рано или поздно, все-равно настигает убегающего. И некуда деваться, некуда прятаться. Некуда бежать дальше. Дальше бетонная стена действительности. Дальше только Ты сам, твой Поступок и его Последствия. С произведением Лихэйна творчество Линча роднит очень многое, в принципе, но вот побег от реальности и себя самого - это краеугольный камень, который при детальном изучении вопроса оставляет в обоих случаях очень тяжелые мысли и вопросы без ответов, посколько разум человека остаётся, по сей день, далекой и непознанной планетой из другой галактики…
Түсініктемелер: 1Пікір пайдалы ма? Иә (3)

«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» - классика "литературы ужасов". Готическая повесть викторианского периода о двойственности человеческой натуры. Как известно, в каждом из нас есть Добро и Зло, и каждый из нас всегда вынужден балансировать между ними. Инь и Янь, Тигр и Дракон, что извечно ведут свою борьбу внутри нас. Но автор задался вопросом "а что если все наши плохие, ужасные качества и помыслы - наша тёмная сторона - станут отдельной личностью?". Автор показывает, как наше «отрицательное Я» может взять человека под свой контроль и в буквальном смысле породить совершенно иную персону. Ведь, в действительности, не нужно никакого специального эликсира, чтобы стать другим. Стать антитезой самому себе. Ибо в каждом из нас скрывается свой Эдвард Хайд. Он просто ждёт своего часа. И порой этот час наступает…
К сожалению, то что Джекил и Хайд это один и тот же человек известно почти всем, так или иначе (включать спойлер алерт, в данном случае, совершенно незачем). И когда заранее знаешь главный твист книги, то повесть немного теряет свою искру. К тому же многим может не зайти структура самого повествования, когда сюжетная линия идёт даже не через доктора Джекила, а через достаточно сухой рассказ его друга полный недомолвок и многоточий. Подобный взгляд от третьего лица тут имеет и свои плюсы, но всё же создаётся впечатление, что Стивенсон не смог (или не захотел) выжать весь потенциал из своего действительно крайне неординарного сюжета.
Среди разных народов мира есть поверья о наших злых двойниках (если говорить точно, то речь идёт doppelgänger), которые живут в зеркалах и их цель занять наше место в этом мире. И иногда они всё-таки находят проход между «зеркальным» и реальным миром.
Двойники в самых различных произведениях всегда олицетворяли собой тёмную изнанку человеческой души, неизменно представляли ту самую Тень отбрасываемую нашим эго. Особенно хорошо и глубоко данная тема раскрыты в эпоху романтизма в мистических произведениях того же Гофмана вроде «Эликсира Сатаны», «Песочного Человека» или «Двойников». Да и по сей день эта тема актуальна и неоднократно находила творческое переосмысление от «Твин Пикса» Дэвида Линча и «Сердца Ангела» Алана Паркера (речь именно о нео-нуарном фильме 1987 года, где линия «двойника» и тени обыгрываются через классическую тему сделки с дьяволом, а не о крайне посредственном романе) до небызвестного «Бойцовского Клуба» Паланика и «Тени Воина» Куросавы . Как говорится, смотря в зеркало не забывай о том, что одновременно кто-то из зеркала смотрит на тебя. И чаще всего, стоит отметить, этот самый кто-то настроен весьма враждебно по отношению к нам. «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» - это безусловно тоже переосмысление традиционной для готики и романтизма темы двойничества под углом псевдонаучного истолкования в виде изобретенного зелья и гротескно-буквального раздвоения личности. Философское же рассмотрение повести Р. Л. Стивенсона о докторе Джекиле и мистере Хайде обычно ограничивается этической проблематикой. А в большинстве случаев обычно подменяется банальными суждениями о неоднозначности природы человека, о том, что порок и добродетель гуляют всегда рука об руку и тому подобными трюизмами (хотя всё это там и правда имеется, но только в самом верхнем сюжетном слое, в то время как работа Стивенсона куда более многослойная и многосложная) . Всё это понятно, всё это известно. Однако если копнуть чуть глубже… возникает целый ряд крайне любопытных вопросов. Что в действительности означает «быть» и «казаться»? Не является ли наша тень, наш двойник, наше альтер-эго, куда более цельной, сильной и волевой личностью, нежели наше «осознанное Я» через которое мы себя и воспринимаем в реальной жизни? Тут ведь кризисом самоидентификации так просто не отделаешься. Да, Доктор Джекил радикальным образом принял свое «бессознательное Я», обособив и отпустив на вольные хлеба, без ущерба для собственной белоснежной репутации, но насколько вина за преступления Хайда лежит на нём? До какой степени? Или этой вины и нет вовсе? А если всё-таки она есть, то считаются ли равным искуплением за злодеяния Хайда добродетельные поступки Джекила? Возможно ли быть абсолютно добродетельным? А если да, то чего мы стоим не отбрасывая никакой тени? Или же наоборот: какой процент порочности души человеческой можно считать приемлемой нормой? И этих вопросов ещё множество, а вот можно ли на них однозначно ответить… Чтож… возможно, что ответы придется поискать в самих себе. Отрефлексировать, так сказать, некоторые моменты (порой весьма и весьма неудобные). Такая вот Странная История, которая порой знает о нас куда больше, нежели мы сами.
Двойники в самых различных произведениях всегда олицетворяли собой тёмную изнанку человеческой души, неизменно представляли ту самую Тень отбрасываемую нашим эго. Особенно хорошо и глубоко данная тема раскрыты в эпоху романтизма в мистических произведениях того же Гофмана вроде «Эликсира Сатаны», «Песочного Человека» или «Двойников». Да и по сей день эта тема актуальна и неоднократно находила творческое переосмысление от «Твин Пикса» Дэвида Линча и «Сердца Ангела» Алана Паркера (речь именно о нео-нуарном фильме 1987 года, где линия «двойника» и тени обыгрываются через классическую тему сделки с дьяволом, а не о крайне посредственном романе) до небызвестного «Бойцовского Клуба» Паланика и «Тени Воина» Куросавы . Как говорится, смотря в зеркало не забывай о том, что одновременно кто-то из зеркала смотрит на тебя. И чаще всего, стоит отметить, этот самый кто-то настроен весьма враждебно по отношению к нам. «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» - это безусловно тоже переосмысление традиционной для готики и романтизма темы двойничества под углом псевдонаучного истолкования в виде изобретенного зелья и гротескно-буквального раздвоения личности. Философское же рассмотрение повести Р. Л. Стивенсона о докторе Джекиле и мистере Хайде обычно ограничивается этической проблематикой. А в большинстве случаев обычно подменяется банальными суждениями о неоднозначности природы человека, о том, что порок и добродетель гуляют всегда рука об руку и тому подобными трюизмами (хотя всё это там и правда имеется, но только в самом верхнем сюжетном слое, в то время как работа Стивенсона куда более многослойная и многосложная) . Всё это понятно, всё это известно. Однако если копнуть чуть глубже… возникает целый ряд крайне любопытных вопросов. Что в действительности означает «быть» и «казаться»? Не является ли наша тень, наш двойник, наше альтер-эго, куда более цельной, сильной и волевой личностью, нежели наше «осознанное Я» через которое мы себя и воспринимаем в реальной жизни? Тут ведь кризисом самоидентификации так просто не отделаешься. Да, Доктор Джекил радикальным образом принял свое «бессознательное Я», обособив и отпустив на вольные хлеба, без ущерба для собственной белоснежной репутации, но насколько вина за преступления Хайда лежит на нём? До какой степени? Или этой вины и нет вовсе? А если всё-таки она есть, то считаются ли равным искуплением за злодеяния Хайда добродетельные поступки Джекила? Возможно ли быть абсолютно добродетельным? А если да, то чего мы стоим не отбрасывая никакой тени? Или же наоборот: какой процент порочности души человеческой можно считать приемлемой нормой? И этих вопросов ещё множество, а вот можно ли на них однозначно ответить… Чтож… возможно, что ответы придется поискать в самих себе. Отрефлексировать, так сказать, некоторые моменты (порой весьма и весьма неудобные). Такая вот Странная История, которая порой знает о нас куда больше, нежели мы сами.
Пікір пайдалы ма? Иә (2)

«Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.» (Вы ведь определенно где-то слышали или читали данную цитату? Наверняка знаете её. Уверен, что знаете. Даже если о Гете и его бессмертном «magnum opus», который он писал на протяжении 60 лет, знаете лишь опосредованно)
И кто же у нас тут? Воу… Сам Иоганн Вольфганг Гете – человек-монумент, чьё творчество в мировой литературе сопоставимо с тем, что совершил Шекспир в Англии, Пушкин в России, Бальзак во Франции. Великий поэт и мыслитель, учёный, гос.деятель, художник, актёр, режиссер, искусствовед, химик, биолог, юрист, финансист и знаток военного дела, большой поклонник философских воззрений Канта, Фихте и Спинозы, драм Шекспира, картин да Винчи и Рафаэля, а также античного искусства, без всякого преувеличения символ эпохи, флагман Просвещения и практически национальный герой (ко всему этому, конечно, не хватает ещё и избитого «миллиардер, плейбой, филантроп», но и без этого выдающаяся личности Гете затмевает большинство своих современников). И самым его известным произведением по праву считается трагическая поэма в двух частях – «Фауст», в которой речь идет о докторе Фаусте, чернокнижнике и алхимике, продавшем душу дьяволу в обмен на любовь юной девы Гретхен (Маргарита).
И кто же у нас тут? Воу… Сам Иоганн Вольфганг Гете – человек-монумент, чьё творчество в мировой литературе сопоставимо с тем, что совершил Шекспир в Англии, Пушкин в России, Бальзак во Франции. Великий поэт и мыслитель, учёный, гос.деятель, художник, актёр, режиссер, искусствовед, химик, биолог, юрист, финансист и знаток военного дела, большой поклонник философских воззрений Канта, Фихте и Спинозы, драм Шекспира, картин да Винчи и Рафаэля, а также античного искусства, без всякого преувеличения символ эпохи, флагман Просвещения и практически национальный герой (ко всему этому, конечно, не хватает ещё и избитого «миллиардер, плейбой, филантроп», но и без этого выдающаяся личности Гете затмевает большинство своих современников). И самым его известным произведением по праву считается трагическая поэма в двух частях – «Фауст», в которой речь идет о докторе Фаусте, чернокнижнике и алхимике, продавшем душу дьяволу в обмен на любовь юной девы Гретхен (Маргарита).
Книга может оказаться интеллектуально неподъёмной (особенно в своей второй половине), если вы совсем не знакомы с классической литературой (поэмами, в частности) и не имеете хотя бы средне-базовых знаний в области философии, религии, мифологии, фольклора и искусства. И это не в упрек кому бы то ни было, поймите меня правильно. Классические произведения порой штука вообще сложная и весьма неоднозначная. Никуда от этого не денешься, и Фауст впервые увидевший свет в начале 19 века, не всегда способен восприниматься на том же уровне в веке 21-м. Это естественно. Поэтому для начала лучше хорошенько подумать, проанализировать «за» и «против», а уж потом, если решили, приступать к чтению.
Итак, «Фауст». Гете взял за основу поэмы народную немецкую легенду о реально жившем в XV веке алхимике, который якобы спутался с нечистым и погиб от его рук, когда срок договора истек. Придав своему сочинению форму поэмы, Гете сделал легенду изящной и творчески переработал весь материал в собственное философское произведение, рассказывающее о человеческом пороке, сверхъестественных силах и судьбе, которую невозможно обмануть.
Доктор Фауст заключает с Мефистофелем договор о том, что получит любовь юной девушки Гретхен в обмен на свою бессмертную душу. Фаусту безразлична загробная жизнь, поэтому он с легкостью соглашается на сделку, а коварному дьяволу только того и надо. И вот, договор скреплен, Фауст получает свое. Отныне начинаются его похождения в мире людей и в загробном мире духов.
Трагедия не случайно разбита на две части, и не случайно большинство читателей знает только о существовании первой, потому что вторая справедливо читается сложнее и словно бы полемизирует с древнегреческими трагедиями, потому что изобилует массой различных фантастических существ и богов, смешавшихся между собой в дионисийском празднестве богатого урожая.
Что касается первой части, показательны иллюстративные сцены самого Фауста, его ученика Вагнера, их прогулки по городу в компании черной собаки (сам дьявол) и любовные сцены между героем и Гретхен. Произведение пронизано символизмом, так характерным для прозы Европы, в которую уже проникли идеи гуманизма и рационализма. Фауст – воплощение не средневекового скоморошества и шаманства, а настоящего ученого, который применяет научные методы познания, и не верит в какие-либо иные силы, кроме силы науки. Он также воплощение, собирательный образ всего человечества, которое бросает неизвестности вызов и готово исследовать все новое. Фауст жадно и яростно ищет новых знаний. Его влекут новые открытия. Ради них он готов через что и кого угодно переступить, даже не оглянувшись.
Трагедия же Фауста очень проста – она заключается в том, что человек не всесилен, и имеет пределы своего познания, душевных сил, наконец, подвержен порокам, и в конечном счете дьявол всегда побеждает в этой сделке – иначе сделки бы просто не было (говоря откровенно, то я никогда не понимал тот специфический тип людей, которые садятся играть в карты, но при этом заранее зная, что перед ними шулер, а потом с горестным видом демонстрирующие всем свои пустые карманы. Дружище, а чего ты ждал? У него же разве что бейджика не было, где бы указывалось, что вся колода крапленая и тебе за этим столом ловить нечего).
Конечно же читать «Фауста» следует только в классическом переводе гениального Холодковского (знаю-знаю, что многие назовут перевод Пастернака, но как по мне, и при всем уважении к Борис Леонидовичу, его перевод не идет ни в какое сравнение, ибо порой это просто бессмысленный набор рифмованных фраз). Само же произведение – один и столпов, на котором стоит весь фундамент европейской и мировой культуры, литературы и языка, потому что является архетипом и философской концепцией целых поколений людей, не утратившей актуальности и до настоящего времени.
При этом не ждите от поэмы легкого слога, «Фауст» сложен и его чтение – определенная интеллектуальная работа (при своём первом знакомстве с «Фаустом» я лично был очень рад тому, что в своё время уже успел прочитать «Божественную комедию» Данте, «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, поскольку, на мой взгляд, «Божественная комедия» и «Фауст» имеют один фундамент – поиск смысла человеческого существования, а без знания «Илиады» и «Одиссеи» второй акт может превратиться в дикий и совершенно бессмысленный каламбур образов, имён и событий), однако усилия окупятся сторицей, и вы серьезно обогатите свой багаж знаний. А что может быть важнее Знания? Хммм… вопрос таки интересный, конечно… Можете поинтересоваться на этот счёт у доктора Фауста, к примеру ;)
Доктор Фауст заключает с Мефистофелем договор о том, что получит любовь юной девушки Гретхен в обмен на свою бессмертную душу. Фаусту безразлична загробная жизнь, поэтому он с легкостью соглашается на сделку, а коварному дьяволу только того и надо. И вот, договор скреплен, Фауст получает свое. Отныне начинаются его похождения в мире людей и в загробном мире духов.
Трагедия не случайно разбита на две части, и не случайно большинство читателей знает только о существовании первой, потому что вторая справедливо читается сложнее и словно бы полемизирует с древнегреческими трагедиями, потому что изобилует массой различных фантастических существ и богов, смешавшихся между собой в дионисийском празднестве богатого урожая.
Что касается первой части, показательны иллюстративные сцены самого Фауста, его ученика Вагнера, их прогулки по городу в компании черной собаки (сам дьявол) и любовные сцены между героем и Гретхен. Произведение пронизано символизмом, так характерным для прозы Европы, в которую уже проникли идеи гуманизма и рационализма. Фауст – воплощение не средневекового скоморошества и шаманства, а настоящего ученого, который применяет научные методы познания, и не верит в какие-либо иные силы, кроме силы науки. Он также воплощение, собирательный образ всего человечества, которое бросает неизвестности вызов и готово исследовать все новое. Фауст жадно и яростно ищет новых знаний. Его влекут новые открытия. Ради них он готов через что и кого угодно переступить, даже не оглянувшись.
Трагедия же Фауста очень проста – она заключается в том, что человек не всесилен, и имеет пределы своего познания, душевных сил, наконец, подвержен порокам, и в конечном счете дьявол всегда побеждает в этой сделке – иначе сделки бы просто не было (говоря откровенно, то я никогда не понимал тот специфический тип людей, которые садятся играть в карты, но при этом заранее зная, что перед ними шулер, а потом с горестным видом демонстрирующие всем свои пустые карманы. Дружище, а чего ты ждал? У него же разве что бейджика не было, где бы указывалось, что вся колода крапленая и тебе за этим столом ловить нечего).
Конечно же читать «Фауста» следует только в классическом переводе гениального Холодковского (знаю-знаю, что многие назовут перевод Пастернака, но как по мне, и при всем уважении к Борис Леонидовичу, его перевод не идет ни в какое сравнение, ибо порой это просто бессмысленный набор рифмованных фраз). Само же произведение – один и столпов, на котором стоит весь фундамент европейской и мировой культуры, литературы и языка, потому что является архетипом и философской концепцией целых поколений людей, не утратившей актуальности и до настоящего времени.
При этом не ждите от поэмы легкого слога, «Фауст» сложен и его чтение – определенная интеллектуальная работа (при своём первом знакомстве с «Фаустом» я лично был очень рад тому, что в своё время уже успел прочитать «Божественную комедию» Данте, «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, поскольку, на мой взгляд, «Божественная комедия» и «Фауст» имеют один фундамент – поиск смысла человеческого существования, а без знания «Илиады» и «Одиссеи» второй акт может превратиться в дикий и совершенно бессмысленный каламбур образов, имён и событий), однако усилия окупятся сторицей, и вы серьезно обогатите свой багаж знаний. А что может быть важнее Знания? Хммм… вопрос таки интересный, конечно… Можете поинтересоваться на этот счёт у доктора Фауста, к примеру ;)
Пікір пайдалы ма? Иә (3)

Книга будет интересна всем тем, кого интересуют невымышленные истории о том, куда могут завести мрачные закоулки человеческой психики. Почему мозг (и такое понятие как «душа» с философско-религиозной точки зрения) одних людей бьётся над тем, чтобы сделать мир чуточку лучше (ученые, врачи, исследователи, волонтеры, меценаты и т.д.), а у других он направлен лишь на разрушении и полное пренебрежение моралью и человеческой жизнью? Как так происходит, что одним суждено пойти дорогой Эйнштейна или даже Махатмы Ганди, а другие погрязли в аду собственных страстей и пошли кровавой стезёй Теда Банди и Чикатило? В чём различие между этими людьми? Где проходит эта тонкая грань, что разделяет одних представителей человеческого социума от нового Джека-Потрошителя? Как так произошло, что деяния рук человеческих затмевают собой самые мрачные легенды средневековья о вампирах, оборотнях, призраках, оживших мертвецах и т.п.? Почему лабиринты человеческого разума порождают Чудовищ куда более страшных, нежели любая из тех самых легенд, и которые до поры, до времени, таятся посреди общего людского потока, а потом, в одно мгновение, открывают свой собственный бадикаунт? И как же с ними бороться? Как предотвратить новые трагедии и появление новых «джеков»?Не только правоохранительной системе, но и самому обществу? Вот на эти и подобные вопросы старается ответить автор книги руководствуясь, как своим богатым опытом и наблюдениями, так и опытом своих коллег, будь то другие психологи-профайлеры, детективы из отдела убийств, судмедэксперты, представители прокуратуры или даже простые санитары психлечебниц и патрульные с улиц больших городов. И ещё она старается упорядочить знания о таком неотъемлемом явлении человеческой природы, как её Тёмная Сторона.
Практически нет, автор проделала выдающуюся работу в области психоанализа самых различных типов серийных убийц и маньяков, и той Тьмы, что таится изначально в каждом из нас, но, к сожалению, она постаралась всё это уместить в 300 с лишним страниц, а это слишком мало для темы, которая, если брать в более широком контексте, идёт с человеком рука об руку ещё со времён пещер и огня из камня. Поэтому получилось несколько сжато, хотя и увлекательно. Ну и да, людям с тонкой душевной организацией, наверное, лучше эту книгу не читать. Хотя автор и не злоупотребляет особо кровавыми подробностями дел, которые она рассматривает в книге, но всё же избежать полностью некоторых шокирующих фактов этих преступлений было просто невозможно.
Наверное, первое, что нужно отметить - это то, о ком эта книга. Она (как, в принципе, можно догадаться) полностью сосредоточена на серийных маньяках убийцах/насильниках/педофилах/каннибалах. Темы «профессиональной преступности» и членов её организованных сообществ тут не затрагиваются. Автор не смешивает в один компот причины появления одиозного наёмного убийцы из какого-нибудь картеля и серийного маньяка-убийцы, который 20 лет жизни играл роль клерка в небольшой инвестиционной конторе и добропорядочного семьянина (в английском эта разделительная черта более чётко проведена, к слову: если к первым относятся такие определения как “hitman”, “gunslinger” или “hired gun”, то вторые именуется не иначе как serial killers/murderers). Нет, объект её исследования именно те, кто по средствам ножа, бритвы, веревки или топора, совершает свои преступления ради самого процесса их совершения, те, для кого боль и страдания жертв являются пищей, их хлебом с маслом (а не те кто убивают, преимущественно огнестрельным оружием, ради материальной выгоды или закрепления более высокого положения в преступной иерархии). На протяжении всей книги автор пытается вычленить тот самый «ген убийцы», «ген насилия», который заложен во всех нас, но наиболее уродливые формы проявления находит лишь в действиях кучки индивидов. В изучении данного феномена она отталкивается не только (и не столько) от строгих терминов судебной психиатрии, а гораздо больше, как мне показалась, полагается на более, так сказать, общую структуру человеческих психотипов и явно отдавая предпочтение системе архетипов введенных К.Г.Юнгом. А именно архетипу Тени, который в некоторых людях формируется во что-то предельно радикальное и изливается в самых изощеренных формах жестокости. Тень есть у каждого (как в физическом смысле, так и в метафизическом), у нас у всех есть свои тайные желания, секреты и порицаемые обществом потребности или слабости (хотя их степень может разнится колоссально от человека к человеку), они то и формирует нашу Тень (наше подавленное второе «Я»). По Юнгу смысл состоит в том, чтобы смирится со своей Тенью, ассимилировать её и жить в гармонии с самим собой, но вот в определённых случаях Тень не просто сливается с человеком, она его поглощает, наше «Я» полностью уничтожается и на его месте уже появляется Чудовище. Именно отсюда берёт начало существо для которого бессистемное и бесконтрольное насилие становится смыслом жизни, а повседневная обыденность превращается в удобную маску за которой можно спрятаться у всех на виду. И как же остановить появление Чудовища? Увы, но автор приходит к тем же неутешительным выводам, что и многие до неё: всё слишком индивидуально, слишком много переменных и неизвестных в этом уравнении, а тёмные лабиринты нашего подсознания не поддаются никакому структурному психоанализу, который работал бы, если даже не в 9, то хотя бы в 5 случаях из 10. Изловить, изучить и навсегда изолировать Чудовище под маской Человека можно, но вот предотвратить его появление… Просто иногда следите за своей собственной тенью и не давайте ей пожирать слишком много света в вашей жизни…
Пікір пайдалы ма? Иә (1)

Переиздание одного из наиболее классических произведений в японской литературе и в максимально полном переводе Аркадия Стругацкого. “Вечный” сюжет повествующий о нелегкой судьбе молодого военачальника Минамато-но-Ёсицунэ - личности настолько важной в японской истории, что его влияние практически невозможно измерить каким-либо образом. Человека, жившего на изломе эпох в 12-м веке и стоявшего у истоков становления первого (камакурского) сёгуната, а соответственно и в становлении самураев из обычных вооруженных мужчин в военную аристократию и доминирующее сословие в японском обществе, которое определяло жизнь страны на протяжении многих веков вплоть до Реставрации (революции) Мэйдзи в 19-м веке. Настоятельно рекомендуется к прочтению каждому, кого интересуют истоки появления самураев, кодекса бусидо, военной структуры бакуфу и сёгуната, Войны Гэмпэй (хотя для более полного и подробного описания данного события советую также ознакомится с монументальной «Повестью о Доме Тайра») и её последствий для японского самосознания, а также просто история жизненного пути юного воина, который трагически оборвался уже к 30 годам, хотя сам Ёсицунэ по сей день является воплощением всех самурайских добродетелей и был, как принято о нём отзываться, Самураем из Самураев. Недостижимым идеалом. Персонификацией всех постулатов Бусидо.
Если смотреть объективно, то их нет и быть не может. «Сказание о Ёсицунэ» - это идеальное изложение переломного момента в истории целой страны через призму жизни одного-единственного человека. Всё остальное сугубо субъективно и относится к исключительно вашим личным предпочтениям.
Основное, что нужно знать и понимать берясь за чтение этой книги - это то, что Минамато-но-Ёсицунэ является хоть и исторической личностью, но для японцев он нечто гораздо большее. Это мифилогизированный образ Великого Героя наподобие Геракла или Персея из древнегреческих мифов. Квинтэссенция всего того, что принято вкладывать в само слово «самурай». Нечто настолько возвышенное и проникновенное, что попросту не поддается описанию. Фигура Ёсицунэ столь масштабна и всеобъемлюща для самого архетипа «Героя без Страха и Упрека», что даже Джордж Лукас ею основательно проникся и при создании «Звёздных Войн» сделал Ёсицунэ одним прообразов для Люка Скайуокера. В богатой японской истории было предостаточно выдающихся личностей из самурайского сословия, будь то великие воители периода Сэнгоку Дзидай с их эпическими прозвищами (Синген «Тигр из Каи» Такеда, Кенсин «Бог Войны» Уесуги, Масамунэ «Одноглазый Дракон Севера» Датэ, Юкимура «Алый Демон Войны» Санада, Тадакацу «Непревзойденный» Хонда, Сайто «Гадюка из Мино» Досан и, конечно же, Нобунага «Демон - Повелитель Шестого Неба» Ода) или же менее известные герои Войны Босин и дальнейшей Реставрации Мэйдзи вроде Сайго Такамори или Нагакуры Симпати и Сайто Хадзимэ (тот самый легендарный капитан Третьего Подразделения Синсэнгуми), но никто из них никогда даже близко не приближался к тому полу-божественному ореолу, который окружал Ёсицунэ. Короткая, но крайне насыщенная на события, жизнь Ёсицунэ (и его неизменного спутника - странствующего боевого монаха Бэнкэя, чья безграничная преданность своему господину легла в основу догматов тогда ещё только зарождавшегося Кодекса Бусидо) полная побед, беспримерного мужества и отваги, невероятной военной смекалки (Ёсицунэ уже в юношестве показал себя удивительным талантом в области стратегии и тактики), предательств, лишений и скитаний - стала абсолютом для любого будущего самурая и воплощённым в жизнь Бусидо (т.е. воплощением Пути Война в своей самой наивысшей точке). А его смерть стала ориентиром для любого, кто хотел понять в чём выражается такое понятие как «Честь» для самурая. Некоторые источники утверждают, что Юкимура Санада во время Осады Замка Осака силами Токугава в 1615 году и перед тем, как отправится в свой последний бой, сказал испуганным крестьянам Осакского Замка, что «Если вы не знаете историю господина Ёсицунэ, то вам будет не дано понять душу самурая. Понять то, почему истинный Самурай поступает так, а не иначе. Почему одни идут Путем Воина, и Смерть их высшая награда, а другие вспахивают землю и торгуют на рынках. И в этом есть предопределение самого Будды». Чтож… правда ли это или вымысел, но лучшей рецензии для «Сказание о Ёсицунэ», пожалуй, не найти.
Пікір пайдалы ма? Иә (3)

Книга является весьма любопытным сплавом из традиционных японских поверий, средневековых кайданов о призраках и сверхъестественном, современных тоси дэнсэцу (по сути, городских легенд Японии конца 20 - начала 21 века), «Сияния» Стивена Кинга (хотя автор в своем произведении больше опирается на культовую экранизацию Кубрика, как на некий ориентир по построению сюжета, а не на литературный первоисточник Кинга) и «Номера 1408» от того же Стивена Кинга. И подобный многослойный микс идёт только в плюс общей канве повествования, поскольку оно развивается по своей траектории, не копируя чужих работ, а отдавая им скорее дань уважения. Книгу интересно читать практически от первой до последней страницы, мистическая составляющая проработана очень грамотно, а некоторые сюжетные повороты вызывают по-настоящему сильные эмоции в радиусе от напряжения и тревоги до чувства легкой и светлой печали. Само же издание, как и обычно бывает у «Манн, Иванов и Фербер», выше всяких похвал. Бумага плотная, текст идеально пропечатан, а обложка и её cover art завораживают своей красотой.
К сожалению, некоторые моменты романа угадываются наперёд при обыкновенном построении не самой сложной логической цепочки. Помимо мистики, автор способна и в саспенс, и в драматизм, но они не слишком глубокие и надолго сковать читателя просто неспособны. Однако, стоит заметить, что и сама книга не отличается особой продолжительностью, поэтому там, где нужно, они работают, а далее и само повествование плавно подходит к своему финалу.
«Ночь в номере 103» можно безусловно отнести к талантливому произведению начинающего автора с хорошими перспективами на будущее. Оно самобытно, оригинально, увлекательно, но опирается на проверенные временем столбы японского фольклора и культовых вещей современности. Это не бездумная калька с Сияние или 1408, но только в экзотическом японском сеттинге. Никак нет. От данных произведений Кинга чувствуется лишь лёгкий флёр и то, что они послужили частью вдохновения при написании данного романа. Гораздо больше тут ощущается искренняя любовь (и глубокие познания) к японской культуре, истории, всевозможным преданиям, сказкам и легендам этой страны. Автор действительно проникнута всей душой в отношении данной тематики и старается выразить свою любовь и восхищение буквально на каждой странице. И, само собой, людям, которые также неравнодушны к японскому культурному наследию, однозначно будет очень приятно читать эту книгу, даже с чисто эстетической точки зрения.
Пікір пайдалы ма? Иә (7)

Интересная книга дающая чувство полного погружения в японские мифы и легенды. Сам сюжет, возможно, и не блещет особой оригинальностью, ибо использует в качестве механизмов своего продвижения извечные темы о дуальности всёго происходящего вокруг (всё не то, чем оно кажется) и «они слишком разные, чтобы быть вместе, но…», однако использование этих тем в не самом тривиальном ключе и при наличии глобального противостояния (в данном случае, среди божественного пантеона) делают роман затягивающим и интригующим. К тому же у автора определенно есть вкус и чувство меры, что позволяет ей не скатываться к банальным ходам своих персонажей и не перегружает читателя бессмысленными клиффхэнгерами и таинственностью ради таинственности. Когда же центральный конфликт книги подходит к своему апогею, то читается, можно сказать, взахлёб. Ну, а само издание, выше всяких похвал и только 10/10.
В принципе, их нет. Не имея завышенных ожиданий перед прочтением, то и никакого разочарования не будет. Книга не является маст ридом для всех кто любит азиатское фэнтези в его японской ипостаси, но она на это и не претендует.
Добротное и хорошо проработанное произведение позволяющее окунуться в мир полный магии, фантастических существ, чарующих пейзажей Древней Японии, могущественных заклинателей и волшебниц, благородных героев и подлых злодеев (которые сначала злодеями вовсе не кажутся), а также дворцовых интриг небесных обитателей.
Здесь присутствует огромный срез из богатой японской мифологии и существ населяющих её, который умело вплетен в общий сюжет, постоянно его дополняя, расширяя, но никак не перегружая. Талант автора позволяет ей описывать все происходящие события в естественном ключе и не превращать книгу в некий китч с ёкаями, они, самураями, оммёдзи, духами-хранителями, божествами и т.д. Важно ещё и то, что «Когда луна окрасится в алый» избегает главного минуса подобных книг - банальности. Интересная подача и оригинальная конструкция (не самой оригинальной, скажем честно) сюжетной линии спасают книгу от того, чтобы быть просто шаблонным проходняком. Её интересно читать, вникать в детали сюжета, главные герои вызывают эмпатию, а сам ты полностью погружаешься в их мир. Ну, а для тех, кто ещё только хочет (или совсем недавно начал) познакомиться с фэнтези-литературой на основе древнеяпонских мифов - эта книга может и вовсе послужить прекрасной отправной точкой для путешествия по данному жанру.
Здесь присутствует огромный срез из богатой японской мифологии и существ населяющих её, который умело вплетен в общий сюжет, постоянно его дополняя, расширяя, но никак не перегружая. Талант автора позволяет ей описывать все происходящие события в естественном ключе и не превращать книгу в некий китч с ёкаями, они, самураями, оммёдзи, духами-хранителями, божествами и т.д. Важно ещё и то, что «Когда луна окрасится в алый» избегает главного минуса подобных книг - банальности. Интересная подача и оригинальная конструкция (не самой оригинальной, скажем честно) сюжетной линии спасают книгу от того, чтобы быть просто шаблонным проходняком. Её интересно читать, вникать в детали сюжета, главные герои вызывают эмпатию, а сам ты полностью погружаешься в их мир. Ну, а для тех, кто ещё только хочет (или совсем недавно начал) познакомиться с фэнтези-литературой на основе древнеяпонских мифов - эта книга может и вовсе послужить прекрасной отправной точкой для путешествия по данному жанру.
Пікір пайдалы ма? Иә (5)

Прекрасное издание крайне выдающегося собрания различных китайских мифов, легенд, преданий и просто занимательных историй, поданных в изумительной литературной форме. Безусловный памятник китайской литературы периода поздней династии Минь и ранней династии Цинь, открывающий перед читателем не только удивительный мир мифологизированного Китая с его удивительными историями, но и потрясающий язык подачи их автора. Само же издание выше всяких похвал. Яркая и красивая обложка с золотым тиснением, замечательные чёрно-белые иллюстрации, белые страницы и чёткий, хорошо пропечатанный шрифт. При всём её объеме, а книгу удобно держать в руках, она не ломается и не ходит из стороны в сторону, но при желании можно её читать и как table book.
Ну и самое главное, что она содержит в себе четыре отличных сборника повестей и рассказов: "Лисьи чары", "Монахи-волшебники", "Странные истории", "Рассказы о людях необычайных". Вероятно, что каждый сможет найти в них что-то наиболее близкое для себя, поскольку Пу Сун-лин делает по-настоящему титанический охват всевозможных тем и сюжетов.
Для меня - отсутствует. Но тут, как и всегда, это дело вкуса. Если вам не близка вся эта тема с азиатской мифологией, фольклором и культурой, то, наверное, эта книга не для вас. Ибо тут каждая страница пропитана магией китайских преданий с их специфическим (для кого-то) колоритом.
«Рассказы о Необычайном» или же «Записи необыкновенного, сделанные Ляо Чжаем» («Ляо Чжай чжи и»), можно сказать, не боясь преувеличения, являются в Китае одной из самых популярных книг (по продажам она проигрывает разве что «Троецарствию»). Данное произведение , прежде всего, читает, читает с восторгом и умилением перед образцом литературной изысканности, всякий тонко образованный китаец, не говоря уже про людей с образованием по качеству средним и ниже среднего – людей, для которых язык изложения Пу Сун-лина – восхитительная недостижимость. Само же весьма и весьма обширное «Ляо Чжай чжи и» в оригинале составляло 16 томов, которые содержали в себе 431 новеллу (впечатляет, не правда ли?), и хотя они не представляют собой «оригинального» жанра, а являются блестящей стилизацией традиционных китайских новелл VIII—XVI вв. в стиле сяошо, но крайне умелое использование Пу Сун-лином (к слову, именно он считается автором мифа про богиню Нюйву, которая создала человечество) в своих рассказах расхожих сюжетов из китайской классической литературы и народного фольклора, вкупе с небольшими вкраплениями элементов детектива и фантастики, сделало данную работу совершенно уникальной как по подаче, так и по её содержанию. Иного подобного собрания в одной работе большинства народных мифов и сказаний Поднебесной, которые были творчески переработаны и крайне аккуратно дополнены, попросту не существует. На мой личный взгляд, этот опус, работа над которым велась долгие годы на пересечении 17 и 18 века, мог бы смело собой дополнить (и даже расширить до пяти), так называемые, «Четыре Классических Романа Китайской Литературы» (Троецарствие, Речные Заводи, Путешествие на Запад, Сон в красном тереме), поскольку это поистине крайне неординарная вещь. Стоит также отметить, что всё современное китайское (да и в целом азиатское) фэнтези, которое набрало такие мощные обороты в последние несколько лет, опирается на этот великолепный и нестареющий сборник Пу Сун-лина (и ещё, пожалуй, на «Путешествие на Запад» У Чэнь-эня). Так или иначе. В той или иной степени. Это безусловная и неоспоримая основа основ (база, так сказать, если хотите) для любого произведения в данном жанре. И его сегодняшнее постоянное развитие и рост популярности доказывают, что «Рассказы» являются творением вне времени и вне ограничительных рамок культурных традиций только одной страны. Эта книга и сюжеты изложенные в ней найдут своих почитателей (и идейных продолжателей) в любой точке земного шара, ибо они способны откликнуться в сердце любого человека без всякой привязки к его национальности, культуре, религии и т.д. В дополнение можно ещё добавить также о том, что в каком-то смысле «Рассказы о Необычайном» перекликаются со «Сказаниями о Древней Японии» С. Сандзина, и не только сходными темами, но и тем, что китайские культура и фольклор сильно повлияли на традиционные японские мифы и легенды, и, конечно же, на общую культурную составляющую Страны Восходящего Солнца. Обе книги оставляют крайне приятное послевкусие после их прочтения, особенно, если читать их друг за другом (сначала «Рассказы», а потом «Сказания»). В общем и целом, всем неравнодушным к подобному крайне рекомендую «Рассказы о Необычайном» для ознакомления. Думаю, точно не пожалеете.
Пікір пайдалы ма? Иә (3)

Четыре классических романа от «отца» жанра «крутой детектив» Рэймонда Чандлера под одной обложкой. Каждый роман хорош по своему, интрига и общее напряжение сохраняются в каждой, но переодически прерываются интерлюдиями в виде рефлексии главного героя (очень важный момент для понимания ценности персонажа и его культурного наследия. Именно отсюда растут ноги у Рика Декарда из «Бегущего по Лезвию», Гарри Энджела из «Сердца Ангела», Гарри Босха из цикла Коннелли и даже Жефа Костелло из фильма «Самурай» с Аленом Делоном) + каждый из романов умело демонстрирует новые грани modus operandi Филипа Марлоу - частного сыщика из Лос Анджелеса, центрального персонажа многих работ Чандлера и абсолютную икону жанра нуар, чей образ на экране был неоднократно воплощен великим Хэмфри Богартом (также как и «побратима» Марлоу - детектива Сэма Спейда из романов Дэшилла Хэммета. После чего Богарт стал восприниматься (и воспринимается по сей день) не иначе как олицетворение нуара). Два романа из этого сборника в дальнейшем были экранизированы (Долгое Прощание и Блондинка в озере, которая для экрана была переименована в Леди в Озере), и также стали нестареющей классикой «черного фильма». Хотя вот Глубокий Сон, оставшийся в предыдущем сборнике, так и вовсе, как мне думается, стал вершиной всего творческого пути Чандлера. Но хуже от этого данная книга не становится. Иными словами, всем желающим прикоснуться к самым корням - настоятельно рекомендую.
Вполне вероятно, что кому-то такой тип детективного произведения может показаться не самым, так сказать, «захватывающим», ибо стиль Чандлера и его современников, работавших в жанре «крутого детектива», достаточно контрастирует с современными авторами. Само собой, что это дело вкуса. Да и сама специфика того, что потом окрестят «нуар-прозой» (понятие «крутой детектив» уйдёт в историю после того, как в сороковых начнётся эпоха le noire film), не подразумевает некой универсальности и массовости.
Как хорошо известно, уникальный и самобытный жанр кино именуемый «нуар» сформировался в Америке в военные и послевоенные 40-е на стыке трёх ключевых жанров тогдашней американской культуры - палп фикшена, его «подраздела» в виде hardboiled detective (в локализации ставший «крутым детективом») и гангстерского кино 30-х. На него мгновенно наложила свой отпечаток ВМВ и её последствия, тревога рядовых американцев за туманное будущее, появление атомной бомбы, замаячившая где-то на горизонте «красная угроза» и общее чувство неопределенности, потерянности и отсутствие понимания о том, каким же мир будет теперь. Всё это нашло отражение в вечно дождливых и ночных улицах американских городов пропитанных страхом, пороком, преступлениями, безысходностью и одиночеством из только что появившегося жанра (в кино, что важно отметить. Его литературными предвестниками уже были тот же Чандлер, Хэммет и Кейн). Слова из песни 80-х Glenn Frey - You Belong to the City, которая была частью саундтрека к винтажному и давно уже классическому нео-нуарному телесериалу «Полиция Майами: Отдел Нравов» прекрасно характеризуют собой настроение всего жанра, как такового, и всех его дальнейших ответвлений и переосмыслений: The Sun goes down, the night rolls in. You can feel it starting all over again. The moon comes up and the music calls. You're out of your room and down on the street. You can feel the crowds in the midnight heat. The traffic roars, the sirens scream. Look at the faces, it's just like a dream. Тревожный и зыбкий сон с нарастающей опасностью медленно становившийся явью. Недаром, что ключевое произведение Чандлера, в моем представлении - это Глубокий Сон, а Фил Марлоу, в каком-то смысле, там уподобляется Алисе в Стране Чудес по которой, правда, его ведёт не пасхальный кролик и Чеширский Кот, а дедуктивный метод и собственное понимание Чести и Достоинства, Хорошего или Плохого. Сюда данное произведение не вошло, но общее настроение всегда сохраняется благодаря цинично-меланхоличным размышлениям Марлоу (особенно это чувствуется в Долгом Прощании). А раскрытие очередного дела об убийстве, финансовой махинации или ловкой подмене одной личности на другую не приносит чувства удовлетворения или победы главному герою (да и самому читателю), ибо он чётко осознает, всегда и везде, что этот порочный круг не разорвать. Филип Марлоу - это рыцарь (хотя тут я бы сказал, что он подобен больше самураю или скорее ронину) той эпохи, когда для рыцарей места не осталось. Он Дон Кихот из 40-х, и борьба с ветреными мельницами не просто его долг - это вся его жизнь.
Пікір пайдалы ма? Иә (1)

Роман эпохи классического нуара, обретший культовый статус и превратившийся в икону всего жанра. Увидев свет в 1946 году произведение ни на грамм не сбавило в своей гнетущей атмосфере и сюжете, который словно оголенный нерв не даёт ни на минуту расслабиться. А главный герой, упрямо бредущий на поводу своих амбиций прямиком в бездну отчаяния, одиночества и безнадеги, надолго врезается в память и заставляет читателя задуматься о том, какой порой черной иронией и изобретательностью отличается наша жизнь, когда приходит время расплачиваться с ней по долгам. Сюжет книги очень ярко демонстрирует пример того, что принято называть «эффектом бумеранга» (ну или просто кармы). И обволакивающая чёрная пустота в финале заставит почувствовать себя неуютно и зябко, словно вы сами прошли рядом по дороге главного героя.
Хотелось бы что-нибудь тут написать, но нечего. Недостатки отсутствуют как таковые и эту книгу можно советовать любому, кто любит глубокие и вдумчивые книги ведущие в самые тёмные уголки человеческой природы. Про поклонников жанра нуар и самой его эстетики, и говорить нечего. «Аллея Кошмаров» обязательна к прочтению.
История стремительного взлёта и оглушительного падения балаганного фокусника Стэна Карлайла, превратившегося в настоящего гуру спиритических и духовных практик, а затем низвергнутого (низвергнутого самой неотвратимостью расплаты за содеянное. Для него не могло быть иного исхода) на самое дно жизни - это не назидательно-поучительное произведение с выведением обязательной морали в конце. Нет. Это холодный и трезвый взгляд автора на молодого парня (в дальнейшем, на уже полностью зрелого мужчину), чья непомерная амбициозность и чувство превосходства над всеми другими приводят того на стезю сначала обмана, а затем и преступления. Одержимый своими страстями Стэн Карлайл даже не пытается хоть немного осознать то, что он на бешеной скорости несется к обрыву. Зачем ему это? Он всех переиграет все-равно, как обычно. Правда, Стэн не учёл, что играя в карты с Судьбой не всегда выпадают тузы, однажды может выпасть и шестерка, а может быть даже и туз, но пиковый, который начнёт играть уже тобой. Но Стэн над этим не задумывается, никогда не задумывается, он будет давить на эту педаль до упора и, как говорится, исход будет немного предсказуем. Автор же просто всё это зафиксировал на бумаге, не пытаясь дать какую-либо морально-этическую оценку своему герою и его поступкам. Всё это он оставил на суд читателя. Грешем знает о чём пишет, он сам долгое время провёл в балаганном цирке и имел большой опыт в этом, а «Аллея Кошмаров» стала его единственным «хитовым», так сказать, романом. В дальнейшем книга приобрела культовый статус, как и экранизация 1947 года, которая сначала провалилась в прокате, а затем стала одним из столпов классической эры американского нуара. Но счастья, достатка и популярности «Аллея Кошмаров», тем не менее, Грешему не принесла. Судьба автора была не менее мрачной и трагичной, чем у его героя (пусть и совсем по иным причинам), а роман стал роковым предзнаменованием для него самого. Удивительным, непостижимым и каким-то мистическим образом судьбы автора и его персонажа переплелись… Странно, да, но, видимо, Грешем действительно вложил часть себя в «Аллею Кошмаров».
P.S. Экранизация от Дель Торо 2021 года - хорошее кино (особенной редкостью такие фильмы воспринимаются сейчас, когда на экране засилье однотипных ребят в цветастых лосинах и второсортной фантастики с максимально раздутыми бюджетами), но режиссер снимал СВОЮ историю просто в декорациях романа Грешема. Смысловая нагрузка и выводы из неё совершенно иные. Ну и Брэдли Купер, конечно, ни разу не Тайрон Пауэр. Брэдли хорош в этой роли, но Тайрон это вообще другая Лига и другой вид спорта. А вот Кейт Бланшетт… это совсем другой разговор. Если сегодня в американском кино и существует актриса с харизмой и статью голливудских актрис 30-х и 40-х, то это именно Кейт Бланшетт. Тут Дель Торо попал в 10-ку.
P.S. Экранизация от Дель Торо 2021 года - хорошее кино (особенной редкостью такие фильмы воспринимаются сейчас, когда на экране засилье однотипных ребят в цветастых лосинах и второсортной фантастики с максимально раздутыми бюджетами), но режиссер снимал СВОЮ историю просто в декорациях романа Грешема. Смысловая нагрузка и выводы из неё совершенно иные. Ну и Брэдли Купер, конечно, ни разу не Тайрон Пауэр. Брэдли хорош в этой роли, но Тайрон это вообще другая Лига и другой вид спорта. А вот Кейт Бланшетт… это совсем другой разговор. Если сегодня в американском кино и существует актриса с харизмой и статью голливудских актрис 30-х и 40-х, то это именно Кейт Бланшетт. Тут Дель Торо попал в 10-ку.
Пікір пайдалы ма? Иә (2)

Книга, которая, что называется, вне времени. Книга являющаяся памятником и одной из ключевых основ китайской философской мысли и всей восточной философии, как таковой. Краеугольный камень для такого понятия, как «Путь». Книга, чьё понимание и трактование зависит от каждого человека, когда-либо читавшего её. И исключительно только от него. Книга ставшая ключевым источником знаний для философского учения, но переводимая на самые разные языки мира не реже, чем религиозные тексты Библии или Бхагавад-гиты. Книга, чей автор по сей день не определен в точности, а Лао-цзы, указанный в его общепринятой роли автора сего трактата, превратился в Бога, наподобие Гаунь Юя (период Трех Царств), который после смерти обрел статус Бога Войны. Иными словами, это Книга, которую Вам таки стоит прочесть хотя бы раз, особенно с учетом доступности её изложения.
Тем, кто считает восточно-философские течения, вроде даосизма, слишком обтекаемыми, расплывчатыми, полными различных парадоксов и ни коей мере не понимают полярной концепции Инь-Янь , тем… чтож, возможно, что им не стоит даже пытаться прочитать Дао Дэ Цзин. НО! Возможно, что однажды попробовать всё-таки стоит и Вы найдёте в нём нечто близкое персонально для Вас. Это и есть главный парадокс сего труда - для каждого он уникален (не по форме, но по сути).
Вечный трактат древнекитайского философа жившего в V веке до н.э. и отвечающий на извечные вопросы человека: Что есть Добро, а что есть Зло? Где пролегает грань между достойным и недостойным? Какова истинная природа Справедливости? В чём заключается тайна нашего земного Бытия и какова его цель? Почему человеческие страсти, в итоге, всегда ведут лишь к горю и страданиям? Почему скромность и умение быть дружелюбным дают тебе силу во сто крат превышающую силу любой армии мира? А естественность и открытость для мира, во всех его проявлениях и формах, ведут тебя к самопознанию и самосовершенствованию? И каково же истинное Дао? В чём заключается Путь? И почему у истинного Пути никогда не бывает конца, ибо этот процесс в своей настоящей основе подобен бесконечности Вселенной? На все эти (и многие другие) вопросы просто и доступно отвечает эта книга (ей для это не требуется никаких многотомных трудов на тысячи страниц). Но так ли просто и так ли доступно? Вот ещё один хороший вопрос, на мой взгляд. Поскольку каждый (абсолютно каждый), кто прочтёт эту книгу, поймёт её по-разному и увидит написанное в ней по-своему. Можно сказать, что при всей простоте изложения, глубина вложенных в Дао Дэ Цзин мыслей просто не поддаётся полному выражению и осознанию, а можно сказать и то, что Дао у каждого своё. Собственное. И как каждый проходит индивидуально свой Путь (порой даже не осознавая, что этот Путь, каков бы он не был, придётся одолевать до последних секунд свой жизни), так и каждый прочтёт (и поймёт) эту книгу. И, как мне кажется, в этом и кроется истинное величие текста, который сквозь века прошёл до наших дней, но не на йоту не потерял актуальности заданных в нём тем…
Пікір пайдалы ма? Иә (6)

Красивые иллюстрации, большинство из наиболее популярных мифов и легенд Японии (пусть и в сокращении), доступный для всех язык изложения и отличное качество самого издания с твёрдой бумагой и не размазывающейся печатью. Подходит как давним поклонникам японской культуры, традиций и фольклора, так и тем кто только-только захотел разобраться в этой тематике.
Кому-то может показаться слишком сжатым и упрощенным изложение материала (особенно касательно мифов о сотворении мира, стране мёртвых Ёми или легенде о Юки-онна), но книга предназначена для всех возрастов, поэтому такой подход логичен.
Красиво оформленный сборник различных мифов, легенд и преданий Древней Японии. Иллюстрации оригинальны и самобытны, при этом прекрасно передают загадочный дух японской культуры и фольклора. Тут собрано большинство известных мифов и легенд Страны Восходящего Солнца включая и рассказы про Лунную Деву Кагую, братьев- богов Райдзина и Фудзина, взбалмошного Сусаноо, некого хитрица Мудзину и силача Момотаро. Само собой, что пестрый бестиарий японской мифологии тут тоже представлен так или иначе. Они, тануки (тоже понятно изменение образа в книге, кстати), кицунэ, ёкаи (несколько видов всего, но на всех нужна отдельная книга), драконы стихий, тэнгу и некоторые другие. Иными словами - это краткий экскурс, а тем кому понравится и кто уже повзрослел всегда можно советовать Садзанами Сандзина с его «Сказаниями о Древней Японии».
Пікір пайдалы ма? Иә (1)

Прекрасное издание бессмертной классики готического романа с её не менее бессмертным и самым известным вампиром в истории литературы, кино и всего остального, в главной роли. Отличный перевод (никаких безумных извращений вроде Гаркера, Райнфильда, Миры и Ван Гельсинга), качественная бумага и замечательный арт на обложке изящно напоминающий фанатам про серию Castlevania. Ребята из «Манн, Иванов и Фербер» продолжают держать марку и всегда радуют своих читателей.
Роман и его герой (злодей) настолько известны, что, думаю, все плюсы и минусы данного произведения давно разобраны по косточкам. Не вижу смысла их дополнять (повторять). Нравятся готические истории из викторианской Англии про вампиров и прочую нежить, а также чудаковатый румынский граф не любящий зеркал - это ваше. Не нравится такая тематика и такие персонажи - не ваше. Благодаря известности Дракулы тут всё очень просто.
Что можно ещё написать о стокеровском «Дракуле» чего бы ещё не написали? Ну… эммм… как бы и ничего. Дракула - это давно имя нарицательное. Шаблон, архетип, основа, та самая база. К этому роману нечего добавить. Его название говорит о себе абсолютно всё, ибо что не говори, а посмертная реинкарнация румынского воеводы Влада III Цепеша усилиями одного небезызвестного ирландца давно превзошла (и намного!) свой исторический прототип по узнаваемости и популярности. Да и сам архетипичный образ «Дракулы», как некой мистически-демонической сущности, примерялся ещё не на одну историческую личность от Ивана Грозного и до Оды Нобунаги. Дракула - бессмертен. Тут без вопросов. Уж сколько трансивальнский аристократ-одиночка пережил переизданий, пересъемок и переосмыслений за эту сотню с лишним лет, а они всё продолжаются и продолжаются. И вот перед нами ещё одна. С точным и правильным переводом, оригинальной обложкой навеянной Castlevania и всё тем же сюжетом про английского адвоката, который подальше от своей невесты поехал в карпатские горы сделки заключать по продаже недвижимости, а потом такое началось… Ну, уверен, вы и сами в курсе) От себя добавлю ещё, что сам роман мне полюбился давно, после просмотра потрясающей экранизации Копполы (хотя он и очень основательно сместил акценты из романа) и приобретение подобного издания очень порадовало.
Пікір пайдалы ма? Иә (9)

Не стыдный сиквел к оригинальному роману «Черноё Эхо», который и открывает прекрасную серию о похождениях современного Филипа Марлоу из Полицейского Управления Лос Анджелеса 90-х - Гарри Босхе. Хотя по роману и видно, что Коннелли ещё набивает руку в литературе, а лучшие его идеи (на тот момент) были использованы при написании Эха, но гигантский опыт Коннелли - журналиста криминальных хроник ЛА вытягивает на себе начинающего Коннелли - писателя (хотя огромный потенциал автора и его героя чувствуются сразу и понятно, что в будущем они раскроются в полной мере). Это ещё не новый Рэймонд Чандлер, но человек съевший собаку на тёмной стороне Города Ангелов и делящийся с читателем своими обширными познаниями в этой области.
«Черный Лёд» уступает, как и оригинальному «Черному Эху», так и более поздним романам из цикла вроде «Блондинки в Бетоне», «Последнего Койота» или «Переступить Черту». Автор уже нашел своего главного героя, но пока ещё не совсем нашёл себя в роли писателя, и поэтому порой повествование провисает и кое-где нестыкуется с собой, но, во-первых, это временно (последующие произведения будут в разы сильнее), а во-вторых не так уж и сильно бьёт по восприятию, ибо и сам автор понимает тут свои слабые стороны и удачно перекрывает их тщательно проработанным образом детектива Босха и глубоким знанием преступной жизни Лос Анджелеса.
Вторая книга из длительной серии романов Майкла Коннелли про детектива Гарри Босха. Как сиквел к очень хорошему оригиналу - весьма достойно. Как общая часть обширного цикла - не самое сильное произведение, но это, по сути, лишь самое начало и поэтому можно закрыть глаза. Главное, что сделал (сделал ещё в первом романе, а продолжением лишь закрепил) профессиональный криминальный журналист Коннелли, так это вернул в литературу образы «крутого детектива» из палп фикшена 30-х и хмурого сыщика из нуара 40-х перенеся их в 90-е, а там и в нулевые, и в десятые. Уроки Раймонда Чандлера и Дэшила Хэммета не были забыты, а легли на благодатную почву знаний реального положения дел с криминогенной обстановкой в Лос Анджелесе и нюансами работы офицеров и детективов L.A.P.D. Сияющий днём под горячим калифорнийским солнцем Город Американской Мечты, чьим главным символом стали белые буквы на холме HOLLYWOOD и переливающийся неоном ночью Город Снов (или Город Кошмаров?), чьи улицы переполнены наркодельцами, проститутками, маньяками, членами уличных банд, наркоманами и прочими сомнительными элементами, а главным символом у этого города стала желтая лента с черными буквами CRIME SCENE DO NOT CROSS и красно-голубые мигалки. И вот на этих улицах и работает сыщик Гарри Босх пытаясь понять какой же из городов ему роднее. Тот, что днём? Или тот, что ночью? И если ночной, то может ли хоть кто-то сделать его немного чище? Именно супер-удачный образ Босха, как персонажа, и двойственное обаяние Города Ангелов в котором он работает, и вытягивает даже не самый сильный роман. А уж когда Босх проезжает через Малхолланд Драйв или работает в переулке на Бульваре Сансет, то… черт возьми, Коннелли знает как тонко надавить на чувства своего читателя. Как задеть именно те струны и вызвать те самые аллюзии, которые нужно. В любом из романов Коннелли потрясающе всегда то, что Город, ЛА, сам является полноценным героем (или же злодеем?) порой задвигая на второй (или даже третий) план самого Босха.

Настоящий подарок для всех поклонников жанра «true crime» и тех, кого манит мрачноватая привлекательность криминально-детективных историй на основе реального street level. Книга от человека, который за долгие годы успел изучить печально известные районы Балтимора и работу городского департамента полиции вдоль и поперек. Книга буквально затягивает читателя в мрачное чрево изнанки американского мегаполиса и выбраться из него совсем не так просто, как может показаться.
Отсутствуют. Хотя книга и может показаться весьма специфической всем тем, к кому мое первое предложение из «достоинств» никак не относится.
Вне всяких сомнений, Дэвид Саймон - это абсолютно легендарная фигура для мира криминальной журналистики. Именно его невероятно-виртуозные расследования о криминальной жизни Балтимора легли в основу культовой «Прослушки» (возможно, что лучшего полицейско-криминального процедурала в истории и однозначно одного из лучших сериалов, в принципе), не так давно увидевшего свет «Мы владеем этим городом», который практически выдерживает планку заданную когда-то Прослушкой и рассказывающего о том, что ничего на улицах Балтимора не меняется, всё идет по кругу, но только тона вокруг становятся ещё мрачнее и «Убойного Отдела» (самого первого сериала на основе репортажей Саймона) в сердце которого и лежит материал взятый из данной книги. Это поистине титаническая работа в полной мере передающая дух балтиморских улиц, тёмных закоулков и полицейских сирен разрывающих ночь своим воем, чтобы осветить очередной труп с огнестрелом, ножевым или передозом. Полное погружение в пучину безысходности в бесконечном круговороте насилия, который для местных полицейских давно превратился в каждодневную рутину. В полиции Балтимора давно не осталось романтических представлений о том, как победить Зло, ибо Зло здесь такое же будничное, как пасмурное небо над головой (и вот эта обыденность и повседневность человеческого Зла больше всего и вгоняет мрачную меланхолию после прочтения). Детективы из «Убойного» лишь пытаются сдержать его и не дать плотине прорваться, но порой багровая криминальная волна и их засасывает в свой смертельный водоворот. А у читателя, в дальнейшем, останется очень тяжелое послевкусие, которое может растянуться не на день и не на два.

В первую очередь, это очень интересная, мрачная и интригующая история одного убийства сама по себе. Дело Хейзел Дрю абсолютно самодостаточно, и ему не требуется привязка к чему бы то ни было. Но сам факт того, что эта история послужила одним из источников вдохновения образа Лоры Палмер из культового сериала Дэвида Линча, конечно же, прибавляет и интереса, и ещё больше интригует. Всё-таки «Твин Пикс» - это феномен вне временных рамок, и для тех, кто является фанатами сериала и его приквела (Огонь, Иди Со Мной) по сей день, будет интересно узнать о прообразе убийства старшеклассницы из маленького городка на северо-западе США. Книга изобилует и интересными фактами, и необъяснимыми событиями, и неожиданными поворотами (но своего Черного Вигвама или духа по имени Боб тут, конечно, ожидать не стоит).
Есть вероятность, что кому-то подзаголовок с упоминанием «Твин Пикс» может показаться достаточно натянутым. Это правда, кстати, но только в том случае, если вы ждёте прямых аналогий событий из реальной жизни с событиями и развитием сюжета сериала. Скажу сразу, ждать этого не стоит. Твин Пикс - это не документалистика или «творческое переосмысление». Дело Хейзел Дрю лишь один из источников откуда Линч и Фрост брали материал для создания фабулы сериалы (то есть, убийство молодой девушки, чьё тело обнаружили на берегу озера. И не более того). С тем же успехом можно рассказать про влияние на «Твин Пикс» нуарного фильма «Лора» или же смерти Мэрилин Монро или же теософских учений Елены Блаватской. Общую картину сериала Линч и Фрост собирали из огромного количества разрозненных фрагментов, а то что получилось - это именно их творческое детище. Уникальное и неповторимое. Поэтому не стоит думать, что эта книга документальный Твин Пикс. Это не так. Твин Пикс - вымышленное произведение, а нераскрытое убийство Хейзел Дрю реальная история, которая оставляет после себя, однако, не меньше вопросов и «странностей», чем сериал. Но других. Без сов или вигвамов) Ну, и ещё книга достаточно короткая, авторы не стали ничего растягивать, и это плюс, но все же чего-то не хватило… Думаю, где-то всё же был урезан оригинальный текст, когда он находился на стадии редактуры.
История настоящего нераскрытого убийства, да ещё и с отсылкой к великому сериалу начала 90-х, который любят до сих пор - это ли не залог успеха? Чтож… я не знаю. Но книга определенно найдёт своего читателя, поскольку это действительно загадочное дело, которое способно «затянуть в себя» и вызвать неподдельный интерес, а бойкий тандем авторов поддаст огоньку там, где оно надо. Ребята определенно справились со своей задачей превратив убийство более, чем столетней давности, в захватывающую и увлекательную историю с весьма неожиданными откровениями и выводами. И вам вовсе необязательно быть знакомым с самим «Твин Пикс», чтобы насладиться и проникнуться данной книгой. Упоминание ТП тут скорее лишь приятный бонус, а все аналогии с сериалом (реальные или надуманные, тут не принципиально) могут быть интерпретированы очень и очень по разному. Но главное, что роднит дело Лоры Палмер и дело Хейзел Дрю - это чувство недосказанности, чувство открытого финала (хотя авторы и старались сделать его закрытым, но, на мой взгляд, их выводы… так себе), ну и, само собой, что всё в этом мире совсем не то, чем оно кажется. И вовсе не только совы ;)
Пікір пайдалы ма? Иә (1)

Безусловное и, возможно, главное достоинство этой книги - это то, что она написана настоящим 100% профессионалом в своем деле. А дело всей жизни у мистера Ресслера было весьма непростое - отслеживание и составление характеристик на чудовищ прячущихся за личиной человека. И надо сказать, что Ресслер был действительно фанатиком (в хорошем смысле) своего дела, поскольку он буквально сливался в единое целое с изувеченной психикой своих «подопечных» в попытках подвести их действия под общий знаменатель, и выработать схему систематической борьбы с ними и предотвращения дальнейших убийств такого типа, которые, на первый взгляд, не способны поддаться стандартной юридически-процессуальной логике.
Мистер Ресслер, как матёрый волкодав, многое повидал в своей жизни (пожалуй, что даже слишком), и, наверное, это сделало его невосприимчивым ко многим вещам. И про своего читателя он не всегда задумывается, когда приводит свои воспоминания. Некоторые описания мест преступления или внешнего вида жертв, вероятно, могут отпугнуть от книги людей с не самой закаленной психикой и/или не-переносящих ничего связанного с насилием и различными формами его проявления.
Как, думаю, становится понятно из самого названия книги - это отсылка к известной цитате Ф.Ницше «Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя.» И должен заметить, что это довольно таки точная отсылка в контексте данной работы. Представление об агенте ФБР за многие десятилетия сформировалось, как о бесстрашном, неподкупном и целеустремленном современном рыцаре (или же, как называют их сами американцы, ultimate crimefighters), который низвёл статус американской Коза-Ностры до уровня уличной банды (беспрецедентная анти-мафиозная кампания ФБР в 70-е и 80-е годы), участвовал в нарковойнах с колумбийскими картелями наравне с ДЕА, подвел к электрическому стулу (или к пожизненному) сотни маньяков, убийц и насильников по всей стране, провел грамотное купирование восточно-славянских ОПГ из бывшего СССР в 90-е годы на всей территории США и раскрыл не одну террористическую ячейку в нулевые. И Роберт Ресслер, безусловно, один из таких «рыцарей», но которому по роду его деятельности нужно было смотреть за черту, которая разделяет Добро и Зло. Ему нужно было долго смотреть в бездну и пытаться понять то, что он там видел. Попытаться понять разум бесчеловечного серийного убийцы, вникнуть в него и научиться думать как он. И, конечно же, подобная работа просто неспособна не оставить свой отпечаток на человеке… О чем Ресслер откровенно и не один раз рассказывает. И приходит к простому выводу о том, что Тьму никогда не победить, если не впустить её немного в себя. Самую малость, всего чуть-чуть, но всё же… Никогда не предотвратить преступление из разряда «серийных», если сыщик сам не будет немного маньяком (та самая концепция «инь-янь»). А виртуозно проделанная, в течении десятилетий, Ресслером работа на своём поприще(о которой, по большей части, и рассказывает эта книга) лишь служит этому доказательством.
Пікір пайдалы ма? Иә (1)

Всем фанатам жанра «чёрного кино» посвящается. Любите Хэмфри Богарта, Роберта Митчума, Аву Гарднер и Риту Хейворт? Фанатеете от фильмов вроде Оружие для Найма, Убийцы, Глубокий сон, Ночь и Город, Поцелуй Убийцы, Гильда, Бульвар Сансет, Мальтийский Сокол, Милдред Пирс, Лора, Синий Георгин, Леди в Озере, Из прошлого? Зачитывались романами Чандлера или Кейна? Хотите больше узнать про фильмы классического Голивуда вдохновившие таких режиссеров как Линч, Скорсезе или Рёфн на создание их нео-нуарных драм вроде Малхолланд Драйв, Синий Бархат, Таксист или Драйв? Тогда это книга для вас, и особо тут расписывать ничего не нужно. Это просто лучший справочник/путеводитель/энциклопедия по эпохе классического нуара 40-х и 50-х.
Любому кому слово «нуар», фетровые шляпы, сигареты, роковые красотки, дождливые улицы, чувство обреченности и дух старого Голливуда не по душе - это книга не для вас. Тут всё исключительно «для своих». Само собой, что и фанатов не имеющих знания английского, книга порадует разве что набором черно-белых фотографий и красочных постеров.
Великолепное издание на 500 мелованных страниц рассказывающее (и показывающее) становление и эволюцию жанра от А до Я. Классический Нуар здесь представлен во всём своём многообразии и черно-белом величии. Множество редких кадров с иконами Голливуда тех лет, масса полезной информации и бескрайнее море представленных в книге «нуарных» фильмов, чьё влияние ощущается до сих пор в современном независимом (да даже некоторым и студийном) кино и творениях многих культовых режиссеров.

Один из краеугольных камней составляющих самурайский кодекс «Бусидо» (а точнее его более поздние вариации, а не первоначальные основы из 12-13 веков) наравне с «Книгой Пяти Колец»,«Будосёсинсю» и некоторых измышлений записанных странствующим монахом Такуаном Сохо. Должно быть интересно и познавательно каждому, кто начал интересоваться самураями и самурайской эстетикой, а также диковинным сплавом различных восточно-философских течений, которые и легли в основу самурайской этики и их понимания Чести.
Людям же далёким от той самой «самурайской эстетики» и крайне нелинейных философских учений Востока книга может показаться излишне напыщенной, не особо практичной (ещё бы) и далеко не всегда логичной. Автор старается исходить из собственного опыта (не особо богатого, скажем прямо, ибо во времена Ямамото Цунэтомо все великие битвы уже отгремели, кровавая резня между самурайскими кланами 16 века именуемая периодом Сэнгоку уже давно закончилась, а сам Ямамото жил в мирный и спокойный период Эдо во времена правления династии Токугава, когда слово «самурай» уже больше подразумевало чиновника, нежели воина) и опыта более старших своих товарищей-самураев, которые ещё застигли поля брани, и это часто приводит его из точки А не в точку Б, а в точку В или Г.
За эти годы изданий «Хагакурэ» было в преизрядном количестве, на любой вкус и цвет, что называется, но все они были переводами с английского (как верно указано в аннотации к книге), а не с японского оригинала, и это значительно сокращало угол обзора читателю. Теперь же, с учетом этого нового издания, ничего «сокрытого в листве» для читателя не останется. Все мысли, переживания, измышления, житейские истории и просто любопытные случаи, которые описывает Цунэтомо, предстанут в наиболее полном и нетронутом виде. А ответ на вопрос: «Что же это такое - быть самураем?», который красной нитью проходит через всю книгу, и который волнует автора с первой до последней страницы, каждый, думаю, найдёт для себя сам. И его/её ответ не обязательно должен соответствовать выводам (местами очень расплывчатым) сделанным автором книги. Само издание очень приятное как просто на ощупь, так и при чтении, бумага плотная, а шрифт чёткий, хорошо пропечатанный и не размазывающийся.
Пікір пайдалы ма? Иә (4)

Великий памятник классической китайской литературы. Роман, чей объём на 800 тысяч слов, 120 глав и практически 1500 страниц, которые переполнены всевозможными событиями и историческими персонажами, до сих пор поражает воображение и способен увлечь всякого, кому интересен древний Китай, особенно в период распада династии Хань и установления на её обломках царств Вей, Шу и У. Прекрасное и наиболее полное переиздание (ну, наконец-таки! давно уж назрело) от «Азбуки» с массой сносок и дополнений.
Для кого-то может стать недостатком и тот самый объём материала содержащегося в книге, и сам стиль повествования (всё-таки это произведение конца 15 - начала 16 века), да и если вы до этого ничего не знали про период китайского Троецарствия (которое уже давно вышло за пределы романа, и давно процветает в кино, сериалах, видео и мобильных играх и т.д.), то можно просто очень быстро запутаться в непрерывном потоке событий, интриг, битв, взаимосвязей одних персонажей с другими, имён и названий. «Троецарствие» - это такая азиатская «Игра престолов», но уже для самых взрослых, без каких-либо скидок и на твёрдой исторической основе.
Монументальная работа Ло Гуаньчжуна уже давно покорила Китай, став книгой «Номер 1» в Поднебесной сотни лет назад и по сей день. Но и давно вышла за его пределы найдя себе поклонников в любой точке земного шара, а имена вроде Лю Бэй, Гуань Юй или Цао Цао стали нарицательными. Трагичное, поэтичное, местами саркастичное, где-то фантастичное, а местами слишком реалистичное - это эпическое полотно облеченное в бумагу расскажет о угасании и падении ханьской империи, о восстании «желтых повязок» и их экстравагантном лидере Чжан Цзяо с двумя его братьями, о клятве трёх названных братьев (мудром Лю Бэе, могучем Гуань Ю и буйном весельчаке и пропойце Чжан Фэе) в персиковом саду и их дружбе не знающей границ до самой смерти, о коварстве и тираническом правлении Дуня Чжо, о безграничных амбициях Цао Цао и возвышении (и падении) династии Вей, о коварном манипуляторе и политическом махинаторе Сыма И, чьим интригам и «теневым» ходам, наверное, позавидовал бы Император Палпатин из «Звёздных Войн», который и положил начало концу Трех Царств, а его внук и сын стали основателями династии Цзинь, о величайшем стратеге своего времени хитроумном и утонченном «Спящем Драконе», Чжугэ Ляне, о самом могущественном войне древнего Китая Люй Бу и его романе с истинной “femme fatale” того времени - танцовщицей Диочань, о легендарном Генерале Чжао Юне, чьи безграничные доблесть, преданность и благородство остались в веках, о не менее легендарном генерале Сяхоу Дуне, чей неистовый темперамент стал причиной многих его славных побед, но и не менее горьких поражений, и его кузене Сяхоу Юане, о красавицах-сёстрах Цяо, о Сунь Цуане и его сестре Сунь Шаньсянь, которым волею судьбы выпало возглавить царство У после смерти их отца и старшего брата, и о том куда эта дорога их привела, и ещё об очень-очень-очень многом другом. Книга настолько богата событиями и яркими персонажами из древнекитайской истории, что всего не перескажешь, да это и не нужно. Лучше купить - и прочитать)
Пікір пайдалы ма? Иә (17)

Внушительная, как по размерам, так и по содержанию, произведение описывающее один из ключевых периодов японской истории. Читается легко и быстро.
Зачем нужно было переименовать всех исторических личностей эпохи Сэнгоку Дзидай непонятно до сих пор (авторских прав на них, вроде, ни у кого нет). Книга несмотря на всю свою аутентичность написана западным автором с западной же ментальностью, и это, увы, чувствуется сразу. Это не кино Акиры Куросавы, это Последний Самурай с Томом Крузом или 47 Ронинов с Киану Ривзом.
Весьма и весьма добротное произведение взявшее на себя задачу рассказать о судьбе английского моряка Уильяма Адамса (здесь он Джон Блэкторн) попавшего в Японию в начале 17 века буквально за несколько месяцев до решающего сражения той эпохи, которое определило судьбу страны на три столетия вперед (Битва при Сэкигахаре), а также о возвышении даймё Иэясу Токугавы (местный Торанага) объединившим Японию и основавшим сёгунат Токугавы. Книга написана хорошо, читать интересно, особенно, если закрыть глаза на чисто западный подход в написании. Но то, что переиначили все имена героев - это ужасно глупо и портит впечатления. И ещё это сильно бьёт по историчности. Ну, не нужны тут всё эти Торанаги, Городы (Нобунага Ода), Яемоны (Тоётоми Хидэёси), Исидо (Исида Мицунари) и прочие Йинсаи (Акэти Мицухидэ). А так, конечно, всем любителям японской истории и периода Сэнгоку очень даже может понравится. Советую, пусть и с оговорками.
Пікір пайдалы ма? Иә (15)

Достаточное оригинальное переосмысление событий периода китайского Троецарствия
Изменение исторических имён и названий, как мне кажется, не пошло книге на пользу
Хорошая книга позволяющая посмотреть на эпоху легендарного Троецарствия под другим углом, но, увы, без легендарных личностей того времени вроде Цао Цао, Лю Бэя, Сяхоу Дуня, Гуань Юя, Сунь Цзяня, Генерала Чжао Юня, Люй Бу и Диочань, книга много теряет, а их «копии» придуманные писательницей, но под другими именами и уже с другими мотивами, это уже не то.

Лучшее собрание японских мифов, легенд и народного фольклора
Тем, кто далек от восточной в целом и японской в частности культуры, лучше и начинать её чтение.
Во многом монументальное произведение, которое объединяет под одной обложкой большинство разрозненных мифов, легенд и просто «странных историй» Японии времён таких деятелей, как Минамото Ёсицунэ или Тайра Кийомори.
Пікір пайдалы ма? Иә (2)
| Беттер: 1 2 | Көрсетілген 1-40 барлығы 42 |