«К тому времени Витольд уже был свидетелем десятка убийств, но сейчас он словно вырвался из затяжного оцепенения. Глядя из окна на строй заключенных, он был уверен: они чувствуют то же самое, что и он, — раскаленную добела ярость, пробивающуюся сквозь коллективный страх и апатию».
«Отмечая его невозмутимость и умение слушать, люди иногда принимали Витольда за священника или за честного чиновника. Изредка он мог позволить эмоциям вырваться наружу, но чаще всего казалось, что его что-то сдерживает, какой-то внутренний узел, который он был не в силах развязать».
«Когда Витольд рассказывал об ужасах лагеря друзьям, они уклонялись от разговора, меняли тему или, что еще хуже, выражали сочувствие. Он хотел не жалости, а понимания. «Я больше не могу общаться со своими друзьями и другими людьми, — писал он позже. — Я не хотел меняться, но после этого ада я стал другим»».
«Его адвокат обычно советовал клиентам просить прощения у суда. Но Витольд отказался. «Я пытался жить так, — сказал он в зале суда, — чтобы в последний час я испытывал счастье, а не страх. Я счастлив от того, что знаю: моя борьба того стоила»».
«Он подумал об эсэсовце, в квартире которого они делали ремонт: как взволнованно он говорил о приезде жены, представляя себе ее радость. За пределами лагеря этот офицер-эсэсовец выглядел приличным человеком, но, переступив порог Аушвица, он становился жестоким убийцей. И самой чудовищной была мысль о том, что этот человек способен обитать в двух мирах одновременно».
 (бонуса)
(бонуса)










































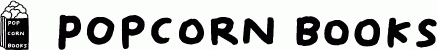
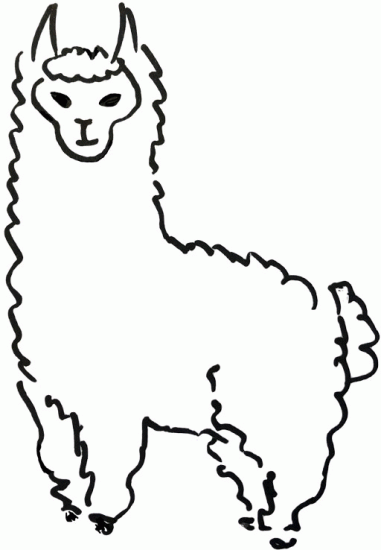










































































































%text%